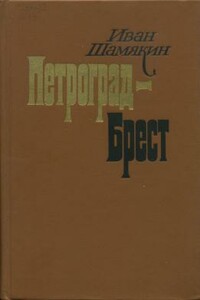Зенит | страница 98
— А что я сказал? Товарищи! Что я такое сказал? Что ни скажу, Павлу Ивановичу не нравится.
Софья Петровна смотрела на меня грустно и укоризненно, глаза ее говорили: «Ах, Павел, Павел».
Сорвался я, конечно, зря: никто не может, кроме разве Зоси, понять причину, и я не смогу объяснить ее ни теперь, ни позже. Но извиняться не мог. Чтобы как-то дать понять, из-за чего все же я, поднимая портфель, пробормотал:
— «Всадили»… Боже мой! «Всадили»… Нельзя же так про смерть матери.
Дошло? Не дошло?
Во всяком случае, наступила неловкая и тяжкая минута молчания. Даже Барашка затих. Я сел за свой стол, сжал ладонями виски, в которых стучала кровь. Болезнь возраста: чуть что, и крови тесно в склеротических артериях. А тут неожиданно такая стрессовая ситуация — сама трагедия и моя странная реакция.
Отняв от лица руки, я успел уловить, как Барашка крутит пальцем у своего виска, показывает: мол, того… дожил старик до пунктика.
Поступок на грани хулиганства, если иметь в виду разницу в возрасте и служебную субординацию. Но я не возмутился. Наоборот, кажется, немного даже успокоился, переключился на внутреннее, мелочное. Кому наглец подает такие знаки? Наташе? Нет. Та ломает пальцы от боли за меня. Наташа умница и, напуганная однажды моим сердечным приступом, с трогательным вниманием охраняет мой покой. Не Софье же Петровне. Ее он боится. Петровскому? Неужели Петровскому? У них установились близкие отношения? Странно, на какой почве? Михаил Михайлович никогда не позволял младшим коллегам фамильярничать с собой. У него больше, чем у кого иного, профессорского, гонора; Зося шутит, что у него даже походка профессорская.
Друг мой и сосед по даче гладил свою лысую, как бубен, голову и усмехался. Знакомый жест удовлетворения, еще Валя как-то давно заметила, что Михаил в такую минуту, по-видимому, шепчет своей голове: «Ах, какая ты у меня умная!»
«Чем же ты доволен, друг мой? Тем, что я сорвался из-за трагедии в дружественной стране? Считаешь это… чем?.. Слабостью моей? Но я не стыжусь ее. Пусть стыдится Барашка, если подлое убийство тронуло его только как сенсация».
Стоило бы сказать это. Но нахлынул приступ физической слабости, уже не раз пугавшей меня, говорить не хочется — тяжело.
Петровский — дипломат, хитрый и тактичный. Нередко, когда на кафедре собиралась грозовая туча, он умел так деликатно «расстрелять» ее, что она проливалась безобидным дождичком, от которого каждый прятался под свой «зонтик».