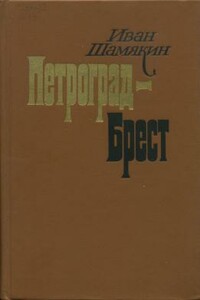Зенит | страница 38
Может, так жарко с непривычки? За четыре года забыли о тепле, мечтали о нем. Правда, летом сорок второго в Мурманске было на диво тепло, несколько дней даже купались — не в Кольском заливе, в озерке каком-то. Но потом было не до купаний: в жаркий и ветреный день налетело около сотни «юнкерсов», «хейнкелей», «мессершмиттов», сожгли город. Потом, разведав, что порт все же уцелел, фашистские стервятники со злобной методичностью, не давая передышки (полярный же день), бомбили его. И жарко было не от солнца — от огня.
Прошлое лето на Кольском полуострове не радовало теплом, все время, можно сказать, спали в шинелях. Да и в Кандалакше в этот первый летний месяц не погрелись ни разу.
И вдруг — столько солнца! Как в Крыму. Не представлял, что в Карелии бывает так жарко. Странно устроен человек: радоваться нужно, а некоторые уж брюзжат, недовольные.
Офицеры стянули со снарядных ящиков брезент — «Черт их не возьмет, снаряды, не расплавятся!» — и на носу баржи установили тент. Под ним и сидим.
Лежим. Все. Кроме Шаховского. Где он?
Рядом с нами — маленький тент. Под ним лазарет: двое раненых с буксира, с ними Пахрицина и санинструктор третьей батареи. Видели там некоторое время и капитана. Но когда солнце поднялось, пригрело и мы, успокоенные после драмы с буксиром, разомлевшие, притихли и, как показалось доктору, уснули, Любовь Сергеевна незаметно взяла руку «князя» и поднесла к своим губам. Однако заметил-таки молодой лейтенант Трухан, все-таки заметил и, хихикнув, ошеломленный, начал шептать нам всем:
— Видели? Видели? Она поцеловала ему руку.
Кто-то еще засмеялся.
Дошло до меня. Вспомнил Лиду, ее страх и… понял, осознал глубину ее чувства. И своего. Прав был Колбенко там, в Медвежьегорске, решив, что я раскричался в доме в испуге за нее, за Лиду. Вспомнился ночной разговор с Пахрициной. Я понимал ее, тронула нежность женщины. Разозлившись на бездушного лейтенанта, сказал Трухану:
— Нечего выскаляться.
— Ручку — князю… Хи-хи…
— Заткнись!
— Ты что, комсорг?
Остальных офицеров, кто не успел уснуть, тоже удивила моя грубость — знали, мне это совсем не свойственно, я, как никто, деликатен с любым бойцом, не только со своими коллегами — офицерами. К тому же я младший по званию. Между прочим, от любого другого Трухан проглотил бы и не такое, особенно от старшего, сам был крикун и матюжник. А тут полез в бутылку:
— Нашелся мне идейный поводырь. Дьяк дивизионный!
Смысл нашего шепота — из-за чего! — видимо, дошел до Шаховского, он ушел куда-то на корму баржи.