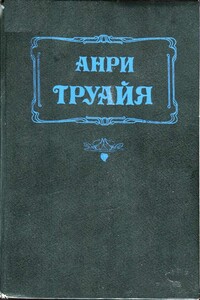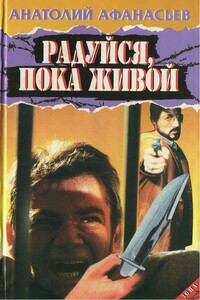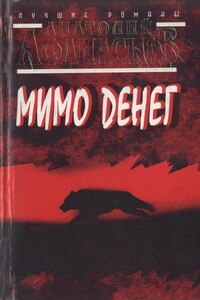Посторонняя | страница 89
Она ощущала в себе какое-то оцепенение. В метро се укачало, она чуть не уснула и не сразу поняла, что едет почему-то не домой, а к Клаве Захорошко. Но зачем едет — никак не могла сообразить. Долго торчала возле Клавиного дома, не решаясь ни войти в подъезд, ни уйти. Клава увидела ее из окна и сама выбежала на двор. Смеясь, запустила в Нину снежком и угодила прямо в лоб.
— Я не хотела, я не хотела! — визжала Клава, корчась от смеха.
Нина вытерла лицо платком, зачерпнула горстью снег и начала преследовать подругу, намереваясь запихнуть ей снег за шиворот. Но где ей было угнаться за быстроногой резвушкой. Обе запыхались, разрумянились — любо-дорого смотреть.
— Сдаюсь! — крикнула Клава и упала в сугроб.
Она шумно барахталась в пушистом снегу, не боясь испачкать шубку и промокнуть, и Нине тоже захотелось окунуться в белые пуховики. Чтобы одолеть соблазн, она сказала обезумевшей Клаве:
— Я поеду, мне некогда!
Подруга проводила ее до метро.
— Ты зачем приезжала-то?
— Повидаться, — глубокомысленно ответила Нина.
— Будет время, — приезжай еще.
Нина на насмешку не ответила. Обе умалчивали о Капитолине, обе делали вид, что все в порядке, но это умалчивание разъединяло их. Нина это чувствовала. У входа в метро она оглянулась. Клава стояла нахохлившись, подняв воротник шубки, смотрела ей вслед.
Вечером Мирон Григорьевич спросил:
— Нина, долго это будет продолжаться?
— Потерпи еще немного.
— У меня нет причин волноваться?
— Никаких причин нет. Никаких! — Нина хотела его обнять, но Мирон Григорьевич резко отстранился.
9
С Певуновым вот что происходило. Он стал будто невменяемым. Сигналы внешнего мира доходили до его сознания смутно, сквозь какую-то темную пелену. Боль и возможность будущих страданий перестали угнетать его разум, зато все тягостнее вспухало в нем ощущение вины. Недвижным его телом завладели бесы раскаянья. Воспоминания терзали душу. Он с ужасом сознавал, что нет, пожалуй, человека, перед которым бы он так или иначе не был виноват. Он изуродовал жизнь Даше, постаревшей, безответной супруге, ничего хорошего не сделал для своих дочерей. Он часто бывал груб и заносчив со своей покойной матерью, и эта вина уже вообще никак не восполнима.
Он провинился и перед Ларисой, в сущности, научив ее торговать любовью. Но более всего он в ответе перед собственной жизнью, прожитой зряшно и оставившей во рту привкус желудочного несварения.
Когда Певунов бодрствовал, то чаще всего теперь думал о Нине Донцовой, ибо именно с ее приходом начались его душевные терзания. «Что я для нее такое — изувеченный, больной человек? — думал Певунов. — Какие чувства могу вызвать в молодой женщине, кроме отвращения и жалости. Зачем же изо дня в день она ходит ко мне, и кормит с ложечки, и приносит дорогую еду, и внимательно выслушивает болезненные, бредовые речи?.. Она ходит сюда единственно потому, что в ее темноволосой головке и в нежном сердце есть то, что выше любви и смерти — сострадание. Других объяснений нет, и, наверное, это самое высокое человеческое свойство.