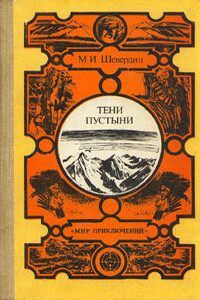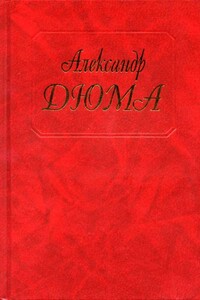Перешагни бездну | страница 135
С шумом кортеж эмира выбирается из дорожной сутолоки к высоченным бухарского вида воротам.
Еще несутся вслед проклятия благородного патана, с которого главный оборванец сшиб ударом посоха белоснежный, подобный горе, тюрбан, а тахтараван уже несут по аллее высоких тополей. Они толстоствольны и тенисты, и по ним видно, что много лет прошло уже со времени бегства Сеида Мир Алимхана из Бухары. В тот год, обосновавшись на чужбине, эмир повелел тайком привезти из-за Аму-Дарьи тополевые саженцы и высадить их в чужую землю, дабы они напоминали о стране предков. Но мог ли думать тогда Сеид Алимхан, что на его глазах тощенькие, слабые прутики вымахают в могучие деревья, кроны которых сомкнутся над дорожкой аллеи. Или, быть может, тополя растут чересчур быстро? Или... действительно прошло так много лет.
Прошло на самом деле немало лет. Сеид Алимхан опустил ногу из тахтаравана на землю. В колене остро кольнуло. Боль отдалась в поясницу. От яркого света, хлынувшего снаружи, в глазах замельтешило. Да, сколько лет прошло. Тогда, в роковой 1920 год, год падения Бухары, Сеид Алимхан чувствовал себя совсем молодым, сильным, неистовым в страстях.
Изгнание сказалось... Не одни тополя растут. Растут и годы и недуги. Стараясь не кряхтеть и не морщиться, эмир величественно поднимается на покрытое ковром глиняное возвышение и усаживается лицом к Каабе на тронное кресло — старинное, обитое сукном, поточенным молью, с облупленными ножкамд. Мельтешение в глазах рассеивается, и эмир смотрит через головы оборванцев на водную гладь водоема.
Красивый хауз. Берега его зеленеют свежим дерном. По углам высятся круглые шапки привитого карагача — «саада», совсем как в родной Бухаре. Проклятие! Карагачи растут во много раз медленнее тополей, но и они, посаженные в тот же год, безобразно выросла и дают уже густую тень.
Безобразно? Нет, они прекрасно принялись здесь, на чужой почве, в чужой стороне. Радоваться бы надо эмиру, такому заядлому садовнику. Но гнев поднимается к горлу. Сколько лет прошло! Сколько лет изгнания, а чернь все еще хозяйничает в священной вотчине мангытов, в Бухаре... благородной Бухаре!
А он, властелин, сидит здесь, слабый, больной и... бессильный. Нет, в нем сил много, бесконечно много. О том пусть скажут обитательницы его гарема. И эмир самодовольно поджимает губы. Бессилен он лишь что-либо сделать со своими непокорными подданными. И вот уже много лет.
Чувственная гримаса не понята приближенными и свитой. Все думают, что эмир недоволен. Крики, вопли и стоны толпящихся вокруг трона смолкают. Испуганные музыканты опускают инструменты. Все глаза устремлены на лицо властелина.