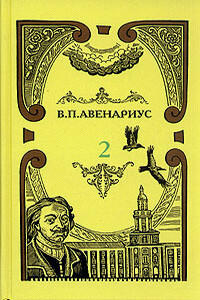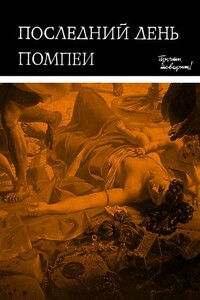Тайна поповского сына | страница 19
Мать убрала посуду, поцеловала и перекрестила сына и ушла в угол горницы за занавесочку.
Семен тоже улегся на широкую скамью, покрытую овчиной.
Было тихо. Неясно доносилось из-за занавесочки бормотанье Арины. Это она молилась…
Сеня лежал и все думал об одном.
Он думал о бесконечной свободе в голубых просторах неба, о великой славе, ожидающей его, о почестях, могуществе, и в эти мгновения жалки казались ему все люди, и бояре, и воеводы, над которыми так высоко взлетел его творческий дух.
И горделивое чувство наполняло душу юноши. Никакое земное могущество не сравнится с властью творческой мысли, с упоением мечты, осуществленной гением человека.
Долго еще мечтал Сеня, лежа на жесткой скамье, на вытертой овчине, долго не закрывал он глаз, пока не показалось ему, что потолок убогой курной избы исчез и открылось над ним бездонное, звездное небо, и он рванулся туда и на радужных крыльях взлетел к прекрасным звездам и смешался с их лучезарной толпой.
А тем временем у Кочкарева было торжество. Хотя и ожидаемый, но все же неожиданный приезд Павлуши Астафьева привел в восторг его отца и возбудил любопытство Кочкарева. Даже старый стольник оживился, видя перед собой питерского гостя. Прежде всего отец был восхищен — его Павлуша был рядовым, а приехал сержантом. Он не мог налюбоваться на него. Настенька с любопытством смотрела на красивого гостя, а Марья Ивановна не знала, где и усадить его.
— Как, когда, за что произведен, что в Питере, видел ли императрицу, каков Бирон?
Вопросы градом сыпались на Павлушу, он прямо растерялся. На его молодом счастливом лице было одно выражение: какое мне дело до всего этого. Я молод, здоров, свободен, и его блестящие глаза все старались встретиться с внимательным взглядом Настеньки.
Но, однако, его заставили разговориться. И по мере рассказа про питерское житье его молодое лицо делалось все грустнее и строже.
Он поведал невеселые вещи.
Начал он с того, как получил офицерский чин.
— Смотр, батюшка, был назначен, — говорил он, — в присутствии самой всемилостивейшей императрицы и его светлости герцога Бирона. Привели нас в пять часов утра в экзерциргауз [3]. Сам знаешь Измайловский пехотный полк, а герцог говорит, кто на лошади не держится — не солдат. Посадить первую роту на коней! Понабрали со всего полка, кто ездить верхом горазд, взяли и меня, ну и сказано, первая рота, на коней! Стали мы парадировать, а конь у меня худо езженный, беда одна. Гергоц сам на коне и только на них и смотрит, покрикивает, длинным бичом машет. Проезжал я, батюшка, мимо него, как щелкнет он бичом, лошадь и вздыбилась. Смотрит герцог пристально, говорит: «Добрый конь». А ну, говорит, возьмем банкет. А в экзерциргаузе, батюшка, сделана такая насыпь высокая, ров за нею, а потом плетень. Дурно говорит его светлость по-русски, только понял я его слова. Тут матушка-императрица растревожилась. А он снял шляпу, обернулся ко мне да кричит: «Гоп, гоп!» — и рукой на банкет указывает.