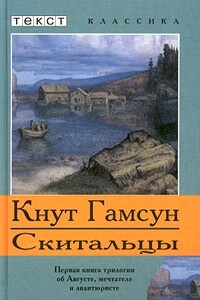Духовная жизнь Америки | страница 41
Зачѣмъ даетъ Эмерсонъ всѣ эти объясненія? Для того, чтобы показать намъ мыслителей, оглядывающихся назадъ, полную относительность оригинальности и, наконецъ, одновременно доказать полную невинность Шекспира, укравшаго содержаніе и текстъ. Разъ такъ поступили съ Библіей, значитъ это вполнѣ возможно. Эмерсонъ рѣшительно ничего не имѣетъ противъ такого поступка. Но, между тѣмъ, нашъ современный законъ сильно покаралъ бы писателя, который, подобно Шекспиру, былъ бы уличенъ въ такомъ грубомъ литературномъ обманѣ и доставилъ бы большія непріятности редактору Молитвы Господней.
Гётевская истина ради культуры, къ которой она ведетъ, много культурнѣе Эмерсонской «чистой» истины. Всѣмъ писателямъ было бы несравненно легче писать по-шекспировски, чѣмъ стараться творитъ самостоятельно. Если бы мы въ наши дни могли, не стѣсняясь, брать то, что уже написано и передумано другими, напримѣръ, Гёте, и послѣдовать примѣру Шекспира, то тогда даже Уитмановскій «Шапошникъ» могъ бы ежегодно сочинять по парѣ Фаустовъ, — но это нисколько не доказывало бы, что подобный поэтъ могъ бы дорасти хотя бы до колѣнъ Шекспира. Но моральный Эмерсонъ ни однимъ словомъ не критикуетъ нѣсколько устарѣлаго обращенія Шекспира съ чужой литературной собственностью, наоборотъ, онъ философски замѣчаетъ, что вся оригинальность относительна, что доказывается самой Библіей.
Но зато Эмерсонъ находитъ нужнымъ разсуждать о неотносящейся къ литературѣ уличной жизни автора, о Шекспирѣ, какъ о человѣкѣ. Это также свидѣтельствуетъ о характерѣ критическихъ способностей Эмерсона, объ его недостаткѣ психологической чуткости. Какое дѣло критику до того, какъ писатель проводитъ свои дни и свои ночи, онъ можетъ интересоваться этимъ лишь постольку, поскольку это отразилось на это творчествѣ.
Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: повредилъ ли творчеству Шекспира его легкомысленный образъ жизни? Испортилъ ли онъ его произведенія? Ослабилъ ли его чувства и творческую силу? Вопросы эти болѣе чѣмъ излишни. Именно благодаря той жизни, которую не допускаютъ Эмерсонъ и бостонскіе эстетики, Шекспиръ пріобрѣлъ тѣ большія познанія и ту глубокую правдивость, передъ которыми мы ежедневно изумляемся и за которыя считаемъ Шекспира великимъ аналитикомъ чувствъ, понимающимъ всякую страсть, всякій грѣхъ, всякое наслажденіе.
Шекспиръ пріобрѣлъ это интимное познаніе всѣхъ человѣческихъ пороковъ и заблужденій, безъ котораго его сочиненія не имѣли бы той цѣны, а его искусство было бы гораздо ниже, — именно, благодаря той жизни, которую велъ бросаясь во всѣ случайности ея и изучая на опытѣ всѣ ступени не только съ чувствомъ, но и со страстью и бѣшенствомъ. Но Эмерсонъ совершенно отказывается понять это. Онъ ни единымъ словомъ не обмолвился о необходимости, или хотя бы о пользѣ его личныхъ жизненныхъ переживаній. Его психологическій взглядъ не идетъ дальше наименѣе человѣческаго въ человѣкѣ, т.-е. морали. Для чего существуетъ только добродѣтель.