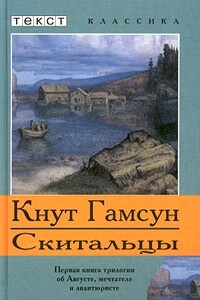Духовная жизнь Америки | страница 37
Разобравъ же сущность дѣла, мы спросимъ: что же однако объяснилъ намъ авторъ? Что доказалъ и опредѣлилъ всѣми своими прекрасными фразами, которыми мы теперь восхищаемся? Мы увидимъ, что въ сущности онъ мало разобралъ самую тему за то болѣе или менѣе продолжительное время, когда мы внимательно слушали его. Возьмемъ, напримѣръ, сочиненіе Representative men, которое начинается съ главы о «Пользѣ и значеніи великихъ людей». Она изобилуетъ прекрасными, интересными мыслями, написанными съ большимъ вкусомъ, — но каково же ея содержаніе? Она говоритъ о томъ, что мы можемъ чему-нибудь научиться у великихъ людей. Какая поразительная истина! Но я зналъ ее еще за десять лѣтъ до моей первой конфирмаціи. Высидѣтъ цѣлый часъ, чтобы узнать, что великіе люди могутъ научитъ насъ чему-нибудь! И тѣмъ не менѣе слушатели отнюдь не скучали, точно такъ же какъ и мы не скучаемъ, читая его лекціи. Говоря все это, онъ былъ неизмѣнно интересенъ. Онъ развиваетъ вышеупомянутую истину дальше и кончаетъ тѣмъ, что «человѣкъ развиваетъ людей». Но на страницѣ 122 той же книги, въ отдѣлѣ о Шекспирѣ, онъ самъ отрицаетъ эту мысль. Но когда онъ говоритъ, мы слушаемъ его съ полнымъ вниманіемъ и относимся съ большимъ интересомъ къ его аргументамъ. Человѣкъ развиваетъ людей. «Всякое судно, плывущее въ Америку, слѣдуетъ картѣ Колумба, всякое поэтическое произведеніе въ долгу у Гомера». «Платонъ — это философія, и философія — это Платонъ. Платонъ породилъ всѣ тѣ мысли, о которыхъ теперь пишутъ и разсуждаютъ. Св. Августинъ, Коперникъ, Ньютонъ, Беменъ, Сведенбэргъ, Гёте, — всѣ обязаны Платону и повторяютъ его слова». Всѣ эти имена вносятъ жизнь въ скучные моменты, за подобной лекціей не будешь зѣвать; мы ничему не научаемся, ни въ чемъ не убѣждаемся, но мы слушаемъ. Можно было бы возразить ему, процитировавъ самого Платона: «Философскій геній рѣдко всесторонне проявляется въ умѣ одного человѣка, но отдѣльныя его черты встрѣчаются въ различныхъ лицахъ». (Республика.) Можно бы было доказать, что Платонъ имѣлъ своихъ предшественниковъ, которые имѣли на него вліяніе: Солонъ, Софронъ, Сократъ; но мы не произносимъ ни одного звука и съ удовольствіемъ слушаемъ интересныя несообразности его философскаго трактата.
Эта способность Эмерсона говорить прекрасныя вещи не повышаетъ его критическаго таланта. Его критика такъ неоригинальна и неглубока, что она едва держится, только благодаря своей блестящей формѣ. Эмерсонъ не можетъ представитъ намъ вещь такъ, какъ она есть, потому что онъ не можетъ вникнутъ въ сущность критикуемаго имъ предмета, онъ лишь ходитъ вокругъ да около. Мы читаемъ всѣ его замѣчательныя изреченія и ждемъ результата, ждемъ заключительнаго слова, которое обрисуетъ намъ весь образъ, отольетъ всю фигуру статуи, но наши ожиданія остаются тщетными. Эмерсонъ откланивается и уходитъ, оставляя читателя съ головой, переполненной прекрасными словами, но всѣ они не сложились въ стройную картину, а остались въ видѣ блестящей, перепутанной смѣси мелкой красивой мозаики.