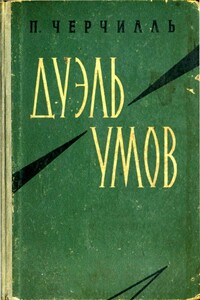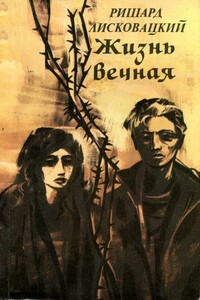Ратное счастье | страница 16
После завтрака — на перила своих крылечек, как сытые куры на насест. И наступает великое и благостное ничегонеделание вплоть до плотного госпитального обеда. Расслабился солдат, распустился самую малость на самый малый срок, на законном основании. Работают только языки, да и то лениво, умиротворенно и, разумеется, не на серьезной волне. Прошлое забыто? Ничего подобного. В том-то и трагедия, что оно не забывается. Оно просто нарочито и временно отодвинуто далеко-далеко. Оно было. И оно будет. А пока налицо что-то явно не от мира солдатского.
В избяных палатах курить ни-ни!.. На распахнутых оконцах парусисто вздуваются марлевые шторки. И на каждом подоконнике — колдовские ромашки в консервных банках. А банки! А банки... для смертного томления солдатского сердца, позабывшего уют и комфорт, засунуты в аккуратные марлевые чехольчики. Чем не рай?
Братцы, а начмед-то здешний — мужик серьезный — пистолеты отбирает!
Не имеет права. Личное оружие.
В самом деле. Госпиталь-то не тыловой!
Эка тема. При выписке обратно получишь.
Получи попробуй. Нет уж, я свой «тэтэшку» в подушку зашил.
А писем там, наверное!.. Эх, так и затеряются...
Велика беда: коли любит — еще напишет.
А коли не любит, стало быть, не напишет? Ишь ты, философ-самоучка.
Да полно вам не о деле. Споем? Федя, заводи эту... душещипательную.
Иду по знакомой дорожке,
Вдали голубеет крыльцо,
Я вижу в открытом окошке
Твое дорогое лицо...
Братцы, отчего солдат гладок? Ох—пойти соснуть минуточек шестьсот...
Мало ты спал? Глаза опухли.
Да где же фронтовику и отоспаться, как не здесь?. Ох, ребята, ив самом деле рай. Никакой тебе войны, будь она трижды неладна.
Рай. Земной. Как там у Теркина?
Тут обвыкнешь — сразу крышка, Как покинешь этот рай...
— Мишка, запахнись, бесстыдник, ангела идут!..
— Не ангела, а ангелицы белоснежные, вкупе с пресвятой матерью Нонной...
— Тише, зубоскалы. Некрасиво.
Ангелы не ангелы — две сестрички-большеглазки, тонюсенькие, точно хворостинки. Ласковые и терпеливые, как няньки при младенцах. А «мать Нонна», врачиха,— в пенсне на шелковом шнурочке; с седыми аккуратными букольками из-под шапочки-пирожка; тоненькие ножки в черных чулочках и огромных американских «гадах» на каучуковом ходу. Ручки у нее маленькие, как у ребенка, с холодной и шершавой от частого мытья кожей. А голосок... «Голубушка, мы опять не спали ночь? Это никуда не годится. Я вам приказываю!» Ах, что мне может приказать эта милая докторша, когда ее — капитана Немирову— раненые запросто величают «мамашенькой» и нисколько не боятся. Она меня смешит: «Голубчик, уж раз вам выпала такая судьба, воюйте, по крайней мере, поосторожнее. Очень вас прошу». И жалобно повторяет: «Очень прошу».