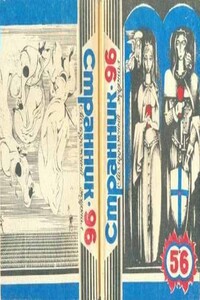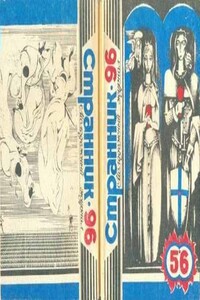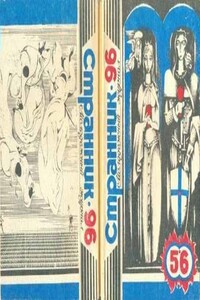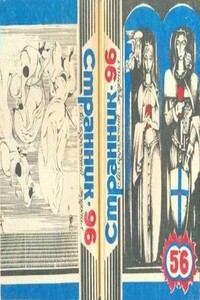Тринадцатый ученик | страница 22
«Отчего, — думал Паша весь на слезе, на каком-то острие муки, — отчего я так люблю все это — и так ненавижу? Отчего эта патологическая двойственность?» Но ангел, ангел благой (или падший, лукавый — кто его разберет?) витал рядом, над челом, открывая Паше очевидные вещи. У него не было отца (эх, залеточка), а глобальный смысл «отечества» ребенок постигает через отца, ибо мужчина — служивый от века и куда более социален и историчен, чем женщина, мужчина — это походные марши и военные знамена, ратный пот и труд, и сын наследует отцовское бремя. А Паше предстоит самому, заново врастать в эту землю, но ему вдвойне трудно, потому что и материнская нить оборвана («Не уезжай, мама!» — «Так нужно, сынок!»). И на дороге этой, залитой закатным заревом, он физически воплощает свое собственное сиротство. Могильная плита! Не по силам! Вот они, порча и ущербность, изначально, от рождения поселившиеся в нем. Вот отчего так ясно, так явственно-удушающе ощущает он зло, потому что оно — в нем, внутри, и легко несется по жизненным волнам Пашина оболочка, оторванная от причала, ноль, заполняемый произвольно.
— Ведь он должен, должен быть где-то здесь, стоит же чем-то русская земля!.. Но только я, только я не узнаю его.
Да сколько же может, сколько же может выдерживать истерзанная, обожженная душа эту беспощадную, эту ясную трезвость!
— Юрка, — окликнул Паша младшего из брательников, волочившего откуда-то доску, — возьми для меня у Татьяны бутылку.
Юрка молниеносно изменил траекторию движения, скинув груз с плеча у Пашиной калитки, нырнул к Мурманчихе, со столь же сверхъестественной скоростью возвратился, и сообщники очутились на скамье под любимой Пашиной великолепной березой. Юрке были налиты его законные посреднические сто грамм, а потом Паша попросил:
— Ты, Юр, иди, я хочу один побыть.
Юрка вздохнул с сожалением, глянув на початую емкость, и удалился. Сквозь вишенник было видно, как, подхватив доску, он бодро и целенаправленно пошагал по дороге, будто и не сворачивал с праведного пути.
Еще полстакана, и наступит забытье. Мысли, шипя, уползут, подбирая хвосты. Но Паша ошибся, он пил, а забвение не наступало, лишь жарче разгорался огонь в его груди. Такой, значит, выпал день — банный, горячечный, адский. Он вспоминал разговор с Викторией Федоровной и агрессивную, бесноватую Жанну и представлял себе, как это совершилось — что вышли бесы и вселились в свиней. А человек — исцелился. В простоте, безыскусности этого эпизода звучала такая мощь, что душа содрогалась. «Должно быть, собственные мои, домашние бесы испугались», — констатировал он и захохотал вслух над посрамлением нечистых, приговаривая: «вас победят». И вновь очнулся и покачал скорбной головой: «Я безумен, безумен. Не по силам мне, Господи, знать все это про себя».