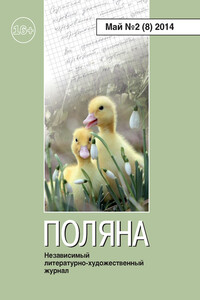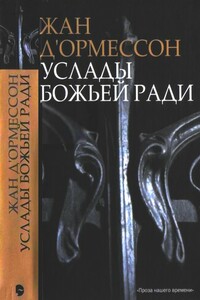Поляна, 2012 № 02 (2), ноябрь | страница 68
Но главное – теперь все будет по-прежнему, сейчас Он сварит бульон, матушка его выпьет и…
«Я пришел, мам! Представляешь, купил лучшее мясо на рынке, сейчас сварю бульон, и тебе станет лучше! Тебе ведь уже лучше?»… Но матушка не ответила, больше она не сказала ни слова… Бледная, она лежала, склонив голову на бок, а Он по привычке подошел поцеловать эти руки, которые лелеяли его в колыбели и взлетали испуганными птицами, если он разбивал коленку, и которые гладили за прилежность по густым волосам, а вечерами тихо щелкали стальными спицами… эти руки всегда жили своей жизнью, и каждую черточку и впадинку на них Он знал наизусть, они были словно глаза, потому что излучали тепло и свет, видели и ощущали гораздо глубже, чем самый проницательный и пристальный взгляд, но теперь они были холодны, как кусок мрамора, холоднее, чем купленное в лавке мясо…
«Почему ты ушла, ничего не сказав мне? Почему не дождалась меня, почему? Я сварил бы бульон, ты же сама попросила, мама, мама…» – думал Он, стоя у плиты, снимая пенки с бульона, мешал прозрачную жидкость не останавливаясь, делал огонь меньше и меньше, чтобы варить его так долго, как только возможно… Машинально вращая ложкой, Он говорил вслух и плакал, воскрешая в памяти яркие моменты своего детства, понимал, что за стенкой его немой слушатель больше никогда не разделит ни одного Его воспоминания, даже тихой улыбкой… Сейчас Он мог бы отдать что угодно только за один взгляд, за один поцелуй, за один стон матушки, но кастрюля уже стала издавать шипящие звуки, и было понятно, что дальше это продолжаться не может, все кончено, ничего не осталось: бульон выкипел, кастрюля почернела, и матушка больше никогда не вернется…
После похорон Он заперся на три замка, зарылся в подушку и ныл, ныл ночи напролет, просил ее вернуться, просил прийти хоть на миг, чтобы попрощаться, представлял себе, как она умирала, задыхаясь в своем долгом и тягучем одиночестве, и рядом не оказалось ни одной души, которая могла бы соединиться с ее душой, помочь подняться к небесам, выйти из грузного опухшего от болезни тела; не мог смириться со своим горем и по привычке шел в комнату, где еще недавно лежала она, бледная, с потным лбом и прилипшими к нему волосами, но живая…
«Ты не могла уйти, не простившись, мама… как же мне жить дальше, зная, что ты умерла вот так, в полном одиночестве, в этом ненавистном квартале, и я не успел попросить у тебя прощенья за все, за каждую твою слезинку, за каждый вздох огорчения, за то, что я никогда больше не смогу поговорить с тобой, поцеловать твои руки, прости меня, мама, мама…»