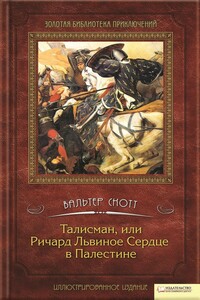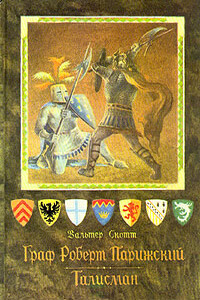Обручённая | страница 50
— Ах, отец! — воскликнула Роза, смущенная бесцеремонностью своего родителя. — Вспомни, где ты и кто перед тобой!
— Да уж, мой добрый Флэммок, — укоризненно произнес монах, — в присутствии благородной норманнской девицы не пристало снимать плащ и надевать ночной колпак.
— Оставьте его, отец мой, — сказала Эвелина, которая в другое время улыбнулась бы при виде готовности, с какой Уилкин Флэммок, еще прежде, чем монах договорил эти слова, завернулся в свой широкий плащ, умостил на каменной скамье свое дородное тело и приготовился вкушать сон. — Церемонии, — продолжала Эвелина, — хороши для мирных времен. Когда кругом опасность, опочивальней пусть служит воину любое место, где он может хотя бы час отдохнуть; а трапезной — любое место, где он может найти пищу. Посидите с нами, отец мой, и помогите нам скоротать эти тревожные часы.
Монах повиновался; но как ни хотел он найти слова утешения, богословская ученость не подсказала ему ничего, кроме покаянных псалмов. Он читал их, пока усталость не взяла верх и над ним; тогда он сам совершил то же нарушение приличий, в каком обвинял Уилкина Флэммока, и задремал на полуслове.
Глава IX
— О ночь! — в слезах она сказала, —
О ночь, предвестница всех бед,
О ночь! — она в слезах сказала, —
Но мне еще страшней рассвет!
Сэр Гилберт Эллиот.
Усталость, которая свалила с ног Флэммока и монаха, не ощущалась обеими девушками, ибо сильнее усталости была тревога; они то вглядывались в едва различимую даль, то поднимали взор к светившим над ними звездам, точно желая прочесть по ним, что сулит завтрашний день. Это было меланхолическое зрелище. Деревья и поле, холм и равнина едва виднелись в неверном свете; вдали их глаза с трудом различали одно или два места, где река, почти всюду скрытая деревьями и высокими берегами, открывалась звездам и бледному полумесяцу. Все было тихо, не считая журчания вод; лишь изредка доносились из полночной тишины отдаленные звуки арфы, означавшие, что кто-нибудь из валлийцев все еще предается любимому развлечению. Из этой дали звуки арфы казались голосом незримого духа; они звучали для Эвелины с неумолимой враждебностью, пророча войну и бедствия, плен и смерть. Другими звуками, нарушавшими тишину, были шаги часовых или стенания сов, которые как бы оплакивали гибель башен, где они издавна гнездились.
Но и само окружающее спокойствие тяжким бременем ложилось на несчастную Эвелину; сильнее, чем шум и кровавое смятение прошедшего дня, оно заставляло ее ощущать нынешнее бедствие и бояться грядущих ужасов. Она то вставала, то садилась, то ходила вдоль башенной площадки, то замирала, неподвижная как статуя, словно пыталась отвлечься от наполнявших ее печали и тревоги.