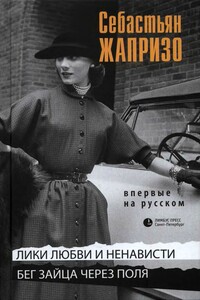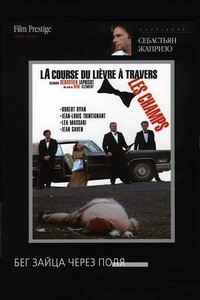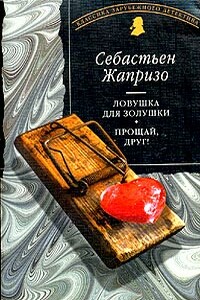Западня для Золушки | страница 8
— Сорок шесть.
— Я здесь давно?
— Семь недель.
— Вы эти семь недель за мной ухаживали?
— Да. Ну все, хватит.
— Какая я была в первые дни?
— Совершенно неподвижная.
— Я бредила?
— Иногда.
— И что я говорила?
— Ничего интересного.
— Ну что, например?
— Я уже не помню.
Спустя еще неделю — еще вечность — в мою палату вошел доктор Дулен со свертком под мышкой. На нем был заляпанный плащ, который он не потрудился снять. В окно рядом с моей кроватью барабанил дождь.
Он подошел ко мне, дотронулся до моего плеча, как он уже привык делать — быстро, не нажимая, — и сказал:
— Привет, мумия.
— Я вас долго ждала.
— Знаю, — сказал он. — Зато я с подарком.
Он объяснил, что кое-кто после моего «припадка» прислал ему цветы. К букету — то были георгины, любимые цветы его жены, — был приложен маленький автомобильный брелок. Он мне его показал. Круглый позолоченный брелок-таймер со звоночком. Очень удобно при стоянке в зоне с ограничением времени.
— Это мой отец подарил?
— Нет. Человек, который заботился о вас после смерти вашей тетушки. В последние годы вы виделись с этим человеком гораздо чаще, чем с отцом. Это женщина. Ее зовут Жанна Мюрно. Она приезжала вслед за вами в Париж. Справляется о вашем здоровье по три раза на дню.
Я сказала, что это имя мне ни о чем не говорит. Он взял стул, завел брелок и положил его на кровать у моей руки.
— Через четверть часа зазвонит. Когда мне пора будет уходить. Как ваше самочувствие, мумия?
— Я бы хотела, чтобы вы больше так меня не называли.
— Завтра я перестану вас так называть. Утром вас отвезут в операционную. Там с вас снимут повязки. Доктор Динн считает, что все уже зарубцевалось.
Он распаковал сверток, который принес. Это оказались фотографии, и на них была я. Он стал показывать их мне по одной, наблюдая за моей реакцией. Похоже, он не особенно надеялся пробудить во мне воспоминания. Да они во мне и не пробудились. Я видела черноволосую девушку, на мой взгляд, прехорошенькую, улыбчивую, тоненькую в талии и длинноногую, которой на разных снимках было от шестнадцати до восемнадцати лет.
Фотографии были глянцевитые, обольстительные и пугающие. Я даже не пыталась вспомнить ни это лицо со светлыми глазами, ни сменявшие друг друга пейзажи, которые мне показывали. С первого же снимка я поняла, что все будет без толку. Я была счастлива, жадно рассматривала себя и была так несчастна, как не бывала еще никогда с тех пор, как открыла глаза навстречу белому свету. Хотелось смеяться и плакать. В конце концов я расплакалась.