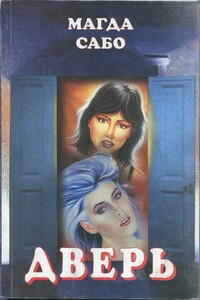Современная венгерская проза | страница 119
На Острове было многолюдно и на удивление прохладно, старая сразу озябла. Классическую музыку она не любила, и не было Винце, который шептал бы ей на ухо, как и что здесь прекрасно, шептал до тех пор, пока она и в самом деле не услышала бы, как качаются красные страусовые перья у Генделя, раздувает шелковые полотнища ветер, огоньки свечей отражаются бликами в огромных серебряных подносах, а у Вагнера скрипят и стонут под ударами бури деревья, мчатся в пене валы, штурмуя прибрежные скалы, и брызги летят чуть не к самым вершинам черных утесов. Винце не было, была одна музыка, непонятная, необъясненная. Она слушала ее без внимания, не думая ни о чем, видя, как Домокош берет руку Изы в свою. Дочь, забыв обо всем, сидела, глядя на дирижера; оба они наслаждались музыкой, время от времени поглядывая на мать, которой подарили такой замечательный вечер, которую не оставили одну, как ребенка, с подарками.
Старая вспоминала свое печенье, ликер, за которым она спускалась днем в магазин, маленький набор стеклянных рюмочек, специально купленный вместо оставленных Анталу, чтобы не пришлось пользоваться тяжелыми хрустальными бокалами Изы — своих гостей она хотела угощать из своей посуды, — и салфетку, наброшенную на приготовленный для торжества стол. Все это потеряло теперь всякий смысл. Домокош заметил, что старая зябнет, и, сняв пиджак, накинул ей на плечи. Все, кто видел это, улыбались, в глазах Изы впервые за все время, пока мать наблюдала за ними, зажегся тот свет, который раньше сиял в ее взгляде лишь рядом с Анталом. «Видимо, ты и вправду хороший», — говорили глаза Изы. Домокош расправил плечи, белоснежная рубашка ловко обтягивала его крепкую, сильную спину. Что за милый человек этот писатель, думали, вероятно, окружающие, он даже такое может себе позволить: сидеть на концерте в одной рубашке, отдав свой пиджак дрожащей от холода старушонке. Все были счастливы и довольны: и семья, и публика. Звуки оркестра взмывали в воздух, кружили высоко над деревьями, словно стая диковинных птиц. Исполняли Бетховена; старая чувствовала лишь, что музыка слишком уж громкая. Она вздергивала голову, в глазах ее была тревога и боль, — и не было рядом Винце, который сказал бы ей: теперь он спорит и негодует. «Слышишь, Этелка, он теперь спорит — с небом, с землей, с самим господом богом!»
После концерта Домокош побежал вперед, белая рубашка его мелькала в толпе, далеко впереди. Лицо Изы было мягким, губы — чуть вспухшими; музыка, как всегда, разбередила и растрогала ее, она с такой же страстью и пониманием следила за полетом мелодий, как ее отец. Домокош с довольным лицом примчался обратно: ему удалось поймать такси; он посадил Изу с матерью, сам устроился впереди.