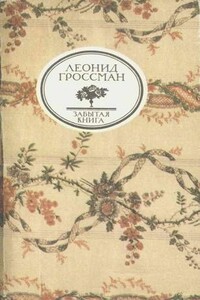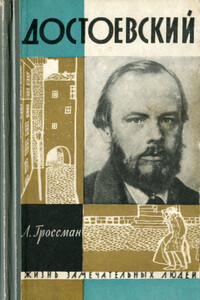Бархатный диктатор | страница 97
Он говорил о них почти с презрением. В студии, за мольбертом, с кистью в руке, он был по-детски откровенен. Всплывало из-под наносного и временного исконное существо его художнической природы. Это был мастер, достаточно беспечный к идеям и тенденциям, но чрезвычайно впечатлительный к запросам зрителя, к последним новинкам, к волнующим темам дня, ко всему, что будит внимание, приковывает взгляд, оживляет беседу, вызывает толки и споры. Революция, подполье, аресты, казни влекли его к себе как острая, большая, раздражающая тема эпохи. И он писал своих террористов, пропагандистов и нигилистов, арестованных и ссыльных, замученных и пытаемых, с отвлеченным, расплывчатым, неопределенным сочувствием к этим жертвенным героям. Но было известно, что одновременно он нисколько не отвращался от власти, породившей этих мучеников и отверженцев. С таким же художественным прилежанием, как и своих «Бурлаков», писал он Александра Третьего на приеме волостных старшин в Петровском дворце. Революция, молодые силы, растоптанные жизни нисколько не мешали ему принимать заказы министерства двора, вице-президента Академии художеств, великих князей, наследника-цесаревича и даже самого царя.
– А знаешь ли, братец, когда грянет революция, неизвестно еще, на чьей стороне ты очутишься, – насмешливо бросил ему недавно скептический приятель, рассматривая красные знамена, желтые венки и синие блузы его «Митинга у стены коммунаров». Художник растерянно промолчал.
– Чистое искусство, – мучительно приподымает брови Гаршин, – какой это манящий, мерцающий, увлекательный и гибельный обман! Когда-то я придавал значение этим чисто художественным затеям. Помню, восхищался «безукоризненной техникой» Семирадского. Можно ли подняться выше? Золото сосудов блестит у него словно позолоченная рама картины, перламутровое сиденье на паланкине императора как будто вырезано из настоящей раковины. Теперь понимаю: какое ребячество!..
– У Семирадского, может быть, – иронически усмехается Репин, – ну а у Тициана, у Тьеполо?
– Все это чужеземцы, нарядные, прекрасные, далекие. Я ищу родного, близкого, моего искусства. Я люблю теперь Сурикова… За образами его дикими, суровыми – я ощущаю жестокий драматизм Древней Руси. О, дайте этой боярыне Морозовой, дайте ее вдохновителю Аввакуму власть – повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы виселицы и плахи, рекой полилась бы кровь. Вот трагический мастер, совершенный в своем искусстве, могучий в своих замыслах…