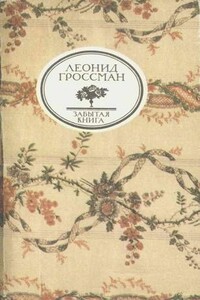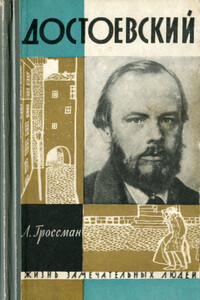Бархатный диктатор | страница 98
Репин пристально всматривается своими зоркими, чуть прищуренными глазами в прекрасную голову своего посетителя. Он оставил палитру и кисти и отошел от мольберта: на сегодня довольно! Верочка радостно спрыгнула с высокого стула и повисла на трапеции, привинченной к архитраву входа в мастерскую. С резвой песенкой, утомившись так долго изображать дочь сосланного, она раскачивается широкими и мерными размахами, на мгновение исчезая и снова радостно влетая в студию. Художники продолжают беседу.
– Глядя на вас, я только что нашел, Гаршин, разрешение давно томившей меня задачи, – произносит Репин, всмотревшись в лицо писателя. – Вы, не зная того, помогли мне. Я хочу писать вас для одной исторической картины.
– Из эпохи татарского ига?
– Нисколько. Почему же?
– Меня часто принимают за татарина. Вообще за восточного выходца… Вероятно, благодаря моей смуглости… Со мной неоднократно на улице заговаривали татары, армяне и евреи на своем родном языке.
– О нет, восточность ваша обруселая… Сказочная немного, но отчасти древнерусская, вот как вся эта узорчатая резьба, эта Азия в Москве, эти шатры, и купола, и терема… Вот туда-то я и хочу ввести вас.
– В качестве кого же?
– Вы будете позировать мне для царевича Ивана, старшего сына Иоанна Грозного…
– Что общего у наследника Грозного с больным петербургским литератором?
– Представьте, есть. В вашем лице меня давно уже поразила его обреченность. Это то, что мне нужно для моего царевича.
– Но ведь он был властен, жесток, своенравен, весь в отца?
– Я изображу его в момент жертвенный и погибельный. В ссоре с отцом он вступается за правое дело. Он высказывает всю правду безумному самодуру… И вот остроконечный посох вонзается в висок царевича. Он шатается, падает, лицо обескровлено, взгляд гаснет. И тут-то в изверге пробуждается отец. В отчаянии он бросается к трупу и в ужасе, уже сознавая себя сыноубийцей, пытается страстными поцелуями вернуть жизнь убитому, бессмысленно зажимая скрюченными пальцами рану с хлещущей кровью…
Слушатели взволнованы рассказом художника.
– Когда возник у тебя этот замысел? – спрашивает наконец Ярошенко.
– Как-то в Москве, два года назад, в один из вечеров я слышал новую вещь Римского-Корсакова – «Месть». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят первом году. Событие первого марта всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год… Я работал завороженный… Мне минутами становилось страшно…