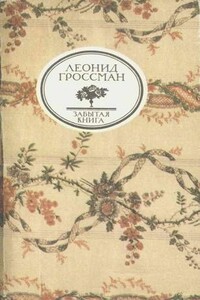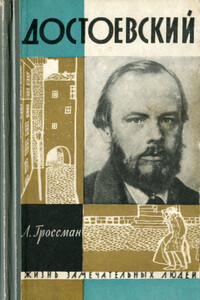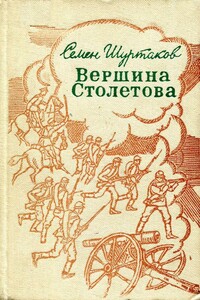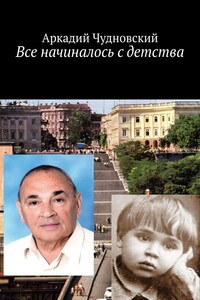Бархатный диктатор | страница 95
Гаршин давно полюбил художников. Их мир считал целебным для себя и болезненно врачующим глубокие душевные язвы. Искусством сам он боролся с подступающим безумием. Нередко спрашивал себя, почему это психиатры еще не додумались лечить своих больных живописью, музыкой, стихами? Вместо изоляторов, не лучше ли было бы отвести в лечебнице комнату под картины? Игра красок, переливы тонов, мерцания одежд, радость улыбок – Леонардо, Боттичелли, Перуджино – и тут же арфы, орган, цитры… И кажется, мрак рассеялся бы и не понадобилось бы никаких горячечных рубашек и привинченных коек.
Репин, заканчивая подмалевку деталей, охотно и бойко беседует. Веселый художник слегка подшучивает над собственными темами.
– Вот за последние годы, глядите: сходка террористов, исповедь, арест – еще ли мало гражданственности? Ведь художник у нас только иллюстратор идей. Вон Крамской похваливает картину – какой, мол, «интересный рассказ»… Да ведь это почти оскорбление живописцу! (Он горячо и нервно накладывает краски на полотно.) В Париже слово «литератор» в академиях Монмартра считается оскорбительным, им клеймят художника, не понимающего пластического смысла форм, красоты в глубоких сочетаниях тонов…
Артиллерист удивленно подымает брови. Он, выученик Чернышевского и Добролюбова, рад общественной теме новой картины Репина. «В красках должна светиться мысль восстающих», – в этом полковник давно был уверен. Слыл нигилистом. Недаром недавно, когда управление патронного завода пыталось дать ему важное секретное поручение, в военном министерстве был поднят вопрос: удобно ли поручать дело первостепенной государственной важности человеку, написавшему «Заключенного», «Студента», «Курсистку» и «Литовский замок»? – «Я пишу то, что дает жизнь в данное время и что будущее занесет в историю», – отвечал Ярошенко. – «Ну, а зачем вы писали Перовскую и Засулич?..» В последнее время художник мечтал об отставке.
– Я теперь не могу никуда уйти от моего «Кочегара», – произносит он наконец в ответ на шутливые жалобы Репина. – Мне кажется, на этом должна сосредоточиться русская живопись: на новой, на будущей, на растущей силе…
Гаршин чрезвычайно любит «Кочегара» Ярошенки. Он запомнил навсегда, как этот художник-инженер водил его по цехам чугунолитейного завода, разъясняя ему среди грохота, огня и дыма сложные процессы металлургического производства. Гаршин был поражен всей обстановкой этого разрушительного ремесла, пожирающего людей и калечащего жизни. Черные прокопченные стены, пылающие жерла калильных горнов, вой машин и визг ремней, ослепительно накаленные глыбы металла, взлетающие на цепях в черноту и чад мастерских, огненные потоки жидкого чугуна, рассыпающегося каскадами искр, а вокруг закаленные огнем, полуобнаженные и лоснящиеся потом, словно вылитые из несокрушимого материала их труда, мускулистые, загорелые, обожженные литейщики и кузнецы – все это было необычайно, чудовищно и грозно. Здесь, среди наковален, котлов и печей, мнущих и льющих чугун, как воск и воду, Ярошенко показал ему последнюю категорию рабочих, подпирающих изнутри руками и грудью котельные стенки, пока кузнец наколачивает снаружи пудовым молотом раскаленную добела заклепку на острие гвоздя, сшивающего железные листы. Жадно всматривается Гаршин в этого обреченного, по-художнически запоминая мучительный образ скорчившегося в три погибели, одетого в лохмотья, задыхающегося от усталости человека. Он зорко разглядывает всклокоченную и закопченную бороду, бескровное лицо, по которому струится пот, смешанный с грязью, жилистые надорванные руки и лохмотья на широкой и впалой груди. Он пристально следит за жестоким ходом котельного ремесла, неизгладимо вычерчивая в памяти этот дьявольский чертеж: «Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе…» И Гаршин понимает теперь, что, написав «Кочегара», Ярошенко уже навсегда ушел от невинных сюжетов, академических тем, пейзажа и жанра. Этот неслыханный «вопль, вложенный в полотно», должен звучать теперь из всех картин и страниц. С мужеством большого художника Ярошенко вступил на этот труднейший и еще не испытанный путь. Он вызвал этого мускулистого рабочего из душного темного завода, чтоб он ужаснул своим видом чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Зоркий живописец словно внушил неведомому труженику: «Приди, силой моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я – язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед, их глазами призраком. Убей их спокойствие, как ты убил мое»… Так понимал писатель это изображение приземистого силача с узловатыми мускулистыми руками, с уверенным, спокойным и решительным взглядом. И в возникающем споре он становится на сторону Ярошенки: