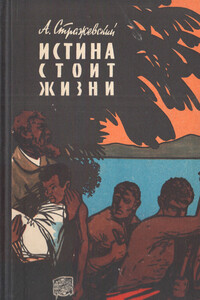От Белого моря до Черного | страница 48
Вот «Грива» становится совсем узкой, каких-нибудь 30—40 метров по вершине, и мы вылезаем из машины, чтобы осмотреться. Направо гряда падает крутым засушливым склоном, редко поросшим березой и сосной. У подножия расстилается заболоченная долинка ручья, настолько плоская, что местами ручеек вовсе прекращает свое течение. Болотце оконтурено причудливо извивающейся опушкой ельника, оно образует уютные закоулки, чередующиеся с выступами леса. А дальше до самого горизонта дымчато синеют лесные пространства с матовыми плешинами болот…
Перешли на другую сторону, обращенную к востоку и юго-востоку, и здесь, как пишут авторы путевых впечатлений, нашим взорам предстала величественная панорама.
На многие десятки квадратных километров у наших ног расстилалась плоская низина. Вот оно, огромное, поистине необозримое северное болото, которого нам до сих пор не удавалось увидеть. Стоя здесь наверху, мы не могли ощутить ни влажности, ни зыбкости его, но ровная, как биллиардный стол, поверхность, матово-оливковый цвет травяного покрова, отсутствие на огромных протяжениях не то что полей или селений, но даже и бугорков накошенного сена — все это свидетельствовало, что перед нами мрачная пугающая топь, бесплодная и опасная для человека и для зверя. По этой шири топорщились щетиной поросли ельника, где совсем худосочного и реденького, где чуть поздоровее. Деревца стояли обиженно хмурые: быть может, лет двадцать назад они еще росли с надеждой превратиться в высокие крепкие ели, но затхлая болотная стихия беспощадно год за годом окружала, засасывала, отравляла их, беззащитных, и некому было прийти к ним на помощь…
Болота, по-видимому, продолжают наступать. А между тем не так уж трудно освоить здешние неисчерпаемые торфяные запасы, превратить эти болота в сенокосные угодья и даже плодородные поля. У северян большие резервы.
По крутому спуску съезжаем с Гривы и вскоре оказываемся у переправы на реке Моше. Через несколько километров Ленинградский тракт вплотную подходит к Онеге.
Вот она, река, которая дала имя пушкинскому герою! Для миллионов читателей во всех природных областях страны «Онегин» звучит необычайно, загадочно и романтично. И только здесь, в Прионежье, это рядовая фамилия, каких немало встретишь в колхозах и на лесопунктах.
Существует отрасль географии — топонимика, которая занимается этимологией, то есть смысловым значением географических названий, устанавливает связь этих названий с обстоятельствами жизни создавшего их народа. Говорят, что есть любители, которые занимаются географическим размещением фамилий. Действительно, занятно бывает проследить, как знакомые, но редко встречающиеся фамилии вдруг где-то запестрят густейшей массой. Так вокруг Архангельска и Холмогор очень много Гурьевых (эту фамилию носит один из старейших и славнейших родов холмогорских рез гиков по кости), Шубиных или Шубных, Лыжиных, а также немало фамилий, происхождение которых связано с былым засильем монастырско-поповской верхушки, третировавшей простой народ: Негодяевы, Врагобесовы и тому подобное. А в Воронеже, который свято чтит память своих знаменитых земляков А. В. Кольцова и И. С. Никитина, тысячи живых Никитиных и Кольцовых трудятся у своих станков.