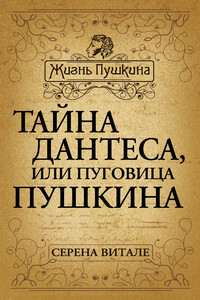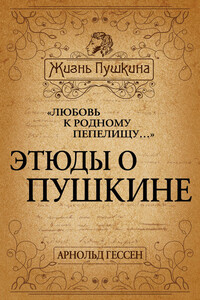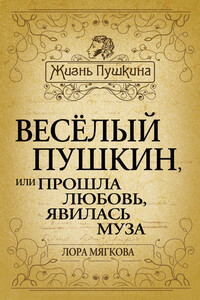Пушкин целился в царя | страница 93
Гончарова вопреки своему желанию вынуждена была выполнить волю первого своего мужа (царь отказал ей в ходатайстве остаться в Петербурге после смерти Пушкина). Выполнила, как всякая женщина, никогда не любившая. Но разве в этом была истинная воля поэта! Натали расписалась в том, что, живя с человеком, не жила им. Бог ей судья. Сердцу не прикажешь любить, даже если рядом великий. Что женщине с этого величия.
Но какова Ахматова! Она же талантлива; она все это знает досконально – все факты, все произведения. Все нанизывает тонко на заранее заготовленный вывод. Подумать только: Пушкин – кающийся грешник, юбочник, боящийся возмездия по принципу «око за око» (с той лишь разницей, что «око» не то)! Вот уж воистину как можно из человеческой трагедии сделать водевиль. Всего лишь надо чуть сместить акценты. Человек пронизан мечтой о великой любви, о Женщине с большой буквы (как принято теперь говорить в наш век штампов), а по пути – захвачен изначальным стремлением, инстинктом мужчины безраздельно и полностью обладать женщиной. Инстинкт Адама. А это чувство трактуется как страх перед женщиной, как комплекс вины перед ней, как априорное оправдание любой женской слабости только потому, что это слабость (ничего себе слабость, которая так гнет и ломает сильный пол).
Ахматова идет напролом: «Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя к ногам дочери мельника. У Пушкина женщина всегда права – слабый всегда прав» (с. 169).
Таков, по мнению Анны Андреевны, Пушкин-моралист.
Поставить знак равенства между князем из «Русалки» и Онегиным, можно только в крайней запальчивости. (Не говоря уже о том, что Пушкин никогда не бросал своего князя к ногам дочери мельника.) По существу и по форме отношения между Татьяной и Онегиным принципиально отличаются от отношений «князь – дочь мельника». В последнем случае рассказывается история (банальная) о совращении бедной девушки лицом знатного происхождения. Здесь морализм четко выражен: черное – черное, белое – белое; порок сначала торжествует, но в конечном счете наказан угрызениями совести. Любовь права. Именно любовь, а не женщина сама по себе только потому, что она женщина, и притом слабая. Этого тоже нельзя упускать из виду.
Ну а как там у Евгения с Татьяной? Кто «прав», а кто «виноват»? Там ситуация посложнее, и она, как нам представляется, «не работает» на схему Ахматовой.
Обратимся сначала к первому объяснению Онегина и Татьяны. С одной стороны – молодая девушка, почти девочка, сугубая провинциалка (Пушкин много строк уделяет описанию той обстановки, в которой жила и воспитывалась героиня), напичканная сентиментальными романами