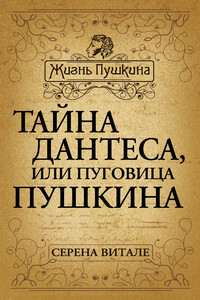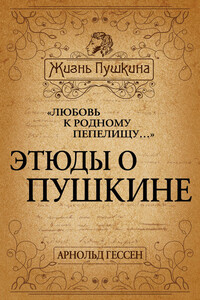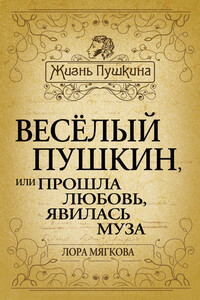Пушкин целился в царя | страница 94
Влюбленности Татьяны предшествовали лишь две-три встречи в семейном кругу в обстановке провинциальных «салонных» (застольных) бесед. Пушкин как бы сам поражается скудости «материала», достаточного для возникновения чувства первой влюбленности:
Влюбляется, не зная Онегина, как в икону, истово веря, что именно так выглядит ее бог. Чувство это прекрасно, но оно не есть любовь. То, что впоследствии этот первый порыв перерастет в любовь, не меняет дела. Ведь это произошло значительно позже и в немалой степени под воздействием последующих событий, возникших препятствий (отказа Онегина, гибели Ленского и бегства Онегина из деревни, посещения дома Онегина). Лишь побывав в кабинете Евгения, ознакомившись со стилем его жизни, библиотекой, Татьяна начинает понемногу понимать (в известной мере, критически оценивать) своего возлюбленного, видеть в нем живого человека в совокупности достоинств и недостатков:
Как видим, здесь уже у Татьяны появляется элемент скептического отношения к избраннику своего сердца. Быть может, это повлияло на ее дальнейшее поведение. Но об этом позже. Важно сейчас другое: все эти метаморфозы, вся осмысленность ощущения Онегина приходят к Татьяне спустя много месяцев, после ее знаменитого любовного послания.
Итак, с одной стороны, юная Татьяна с ощущением девичьей влюбленности, с другой – Онегин, почти на десять лет ее старше, прошедший «огонь, воду и медные трубы» светской жизни, разочарованный в ней и особенно в женщинах этого круга, тяготившийся и жизнью сельского помещика; короче – умудренный опытом мужчина в расцвете сил. Он понимает провинциализм Тани, ее наивную влюбленность, полное незнание жизни, книжность чувств. Конечно, он поражен ее непосредственностью, искренностью, в которой сквозит потенциальная незаурядность. Но она именно потенциальная. Можно ли винить Онегина, что он на ней не акцентировался, может быть, даже пренебрег этим сигналом? Поставьте себя на его место. Факт получения любовного послания от женщины само по себе событие в жизни любого мужчины, событие, которое случается в жизни далеко не каждого мужчины даже сейчас, в век эмансипации. Но учитывая все обстоятельства, о которых говорилось, прикиньте, какова вероятность истолковать этот шаг как проявление неосторожности, горячечности экзальтированной девушки-подростка, а какова – разглядеть за этим проявление глубокой незаурядности женщины, готовой пренебречь «мнением света», домостроевскими представлениями о приличиях во имя большого и глубокого чувства?