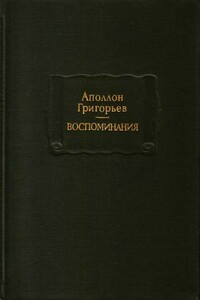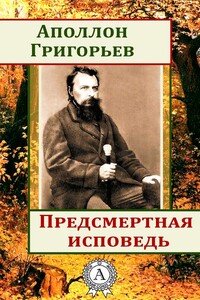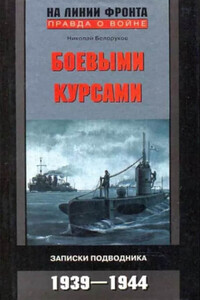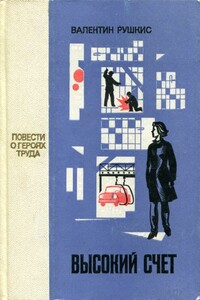Мои литературные и нравственные скитальчества | страница 91
Zum Rothen Adler! – велел я везти себя потому, что там мы с Бахметевым[389] останавливались en grands seigneurs[390] – вследствие чего, т. е. вследствие нашего грансеньорства, и взыскали с нас за какой-то чайник из польского серебра, за так называемую Thee-maschine, который мы, заговорившись по русской беспечности, допустили растопиться – двадцать пять талеров. Там можно было, значит, без особых неприятностей велеть расплатиться с извозчиком.
Так и вышло. «Rother Adler», несмотря на мой легкий костюм, принял меня с большим почетом, узнавши сразу одну из русских ворон.
Через пять минут я сидел в чистой, теплой, уютной комнате. Передо мной была Thee-maschine (должно быть, та же, только в исправленном издании) – а через десять минут я затягивался с наслаждением, азартом, неистовством русской спиглазовской крепкой папироской. Враг всякого комфорта, я только и понимаю комфорт в чаю и в табаке (т. е., если слушать во всем глубоко чтимого мною отца Парфения, – в самом-то диавольском наваждении[391]).
Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра. Одно только – что в душе у меня была глубокая вера в Промысл, в то, что есть еще много впереди. А чего?… Этого я и сам не знал. По-настоящему, ничего не было. На родину ведь я являлся бесполезным человеком – с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, – с общественными идеалами прежними, т. е. хоть и более выясненными, но рановременными и, во всяком случае, несвоевременными, – с глубоким православным чувством и с страшным скептицизмом в нравственных понятиях, с распущенностью и с неутомимою жаждою жизни!..
Окт<ября> 7.
Писать эту исповедь сделалось для меня какою-то горькою отрадою.
Продолжаю.
В ученом городе Берлине либеральный книгопродавец Шнейдер дал мне – ни дать, ни взять, как бы сделал какой-нибудь Матюшин на Щукином дворе[392] – только двадцать талеров под вещи, стоящие вчетверо более.
С двадцатью талерами недалеко уедешь, а ведь кое-как надо было прожить от вторника до субботы,