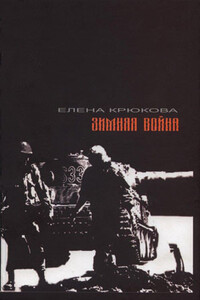Тибетское Евангелие | страница 60
Народ, стоявший кругом, дружно завизжал. Визжали бабы, ну как водится. Нож мой в моем кулаке сам, без моего согласия, описал широкую дугу, и я не понял, почему передо мной мотается красный наш, старый советский флаг, откуда он-то тут, флаг великой, мертвой Родины нашей?! Зачем?! Кто выбросил его на снег…
Окровавленная морда Медведя поплыла мимо меня, вниз и вкось. Его руки схватили прозрачный лед синего воздуха. Он стал падать. Я услышал запоздалый крик из его хриплой глотки, когда он уже лежал на снегу. Из его разрезанного моим ножом лица обильно текла на снег свежая, слишком красная кровь.
Я прошептал: «Я не хотел», — и тупо, глупо стоял над Медведем со своим охотничьим ножом в руке, и по моему серому, подшитому овечьим мехом зипуну, по груди и животу моему, текло горячее, темно-вишневое, а в воздухе пахло солью, свежими омулями, разломленными гранатами, разрезанными лимонами, сахарным морозом и горьким табаком.
Тангера Люська схватил меня за руку, в которой я не сжимал нож. Подняла мою руку вверх.
— Он победил! Мой тангеро победил! Ах, я счастливая! Я… уйду с ним! От вас ото всех! Навсегда!
А в ушах у меня уже бились кровью свистки, и к нам уже бежали, и нас окружали, и выли сирены машин, и это они, да, они, насмерть перепуганные торговцы, вызвали милицию, «скорую помощь» и что там еще?.. ах, да, психбригаду, это я уж потом понял! Лежащего на снегу Медведя дернули вверх со снега, будто сорванное знамя на древко опять водрузить хотели. Мне — руки за спину, и что-то холодное, как болотная змея, обняло запястья, и резко щелкнуло в воздухе, как выстрел!
Наручники, дошло до меня.
Я много чего понял тогда, в тот миг, на черемховском гулком рынке.
Люди, накрывшие нас собой, как черной тряпкой, меня — вели, Медведя — несли на носилках, и гул стоял вокруг нас, и я понял внезапно: это — органный гул, это красивая женщина Лидочка, тезка моей второй покойной жены, играет на органе, а я сижу в зале и слушаю, и превращаюсь в ветер, в камни, в снег, в поднебесный рокот над ее гибкими змеиными пальцами.
А что, если все это — только музыка, все, что сейчас происходит со мной? И я сижу в органном концертном зале, в старом польском иркутском костеле, и сейчас отзвучит последний, самый отчаянный и торжественный аккорд, он тянется уже вечность, и я проснусь? И надо будет хлопать, нещадно хлопать в ладоши артистке. Пока не вспухнут. Не воспалятся. Пока не загорятся. Не…
— Ножи! Ножи-то возьмитя!