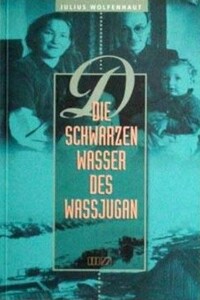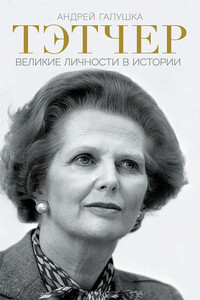Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание | страница 56
Я писал о разрешении выехать за границу. Там я мог бы запродать свои литерат<урные> права и жить, лечиться. Здесь лечиться, при невозможности найти хлеба, — нельзя. Молю Вас, что можете сделать в этом отношении — сделайте. Нечего говорить, что я буду за границ<ей> безусловно лоялен в отнош<ении> политическом. М<ожет> б<ыть>, найдутся поручители, если это нужно. <…> Я не хочу думать, чтобы в интересах власти было дать умереть с голоду больному русскому писателю[94].
Он написал о своем желании пожить где-то вне России даже Луначарскому и Горькому. Но он не думал об эмиграции, о том, что покинет Россию навсегда. Из писем Вересаеву видно, что он собирался уехать самое большее на год или два. Он видел, что в большевистской России он чужой, ему просто нет здесь места. Вересаеву в октябрьском письме Шмелев жаловался, что здесь он иждивенец, что ему нужен иной воздух: «Мне надо воздуху иного…»[95] Воздуху надо — это и крик, и просьба творческой интеллигенции начала 1920-х годов. Блок в речи «О назначении поэта» (1921), незадолго до смерти, говорил об отсутствии воздуха, по сути, об отсутствии творческой свободы. Перед эмиграцией во время одной из лекций о Блоке А. Белый кричал о душевной астме, в которой задохнулся Блок, задыхается и он… Вот и Шмелеву «надо воздуху».
Литературная жизнь была невыносимой. «Литература — случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лица, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного»[96], — писал Шмелев Бунину в Париж уже из Берлина. Русскому писательству действительно не хватало воздуха. Тренев сообщал Шмелеву о требованиях идеологов к прозе: произведение должно отвечать эпохе, реагировать на социальные изменения. Шмелев воспринимал такого рода условия как задание, он жаловался Вересаеву на невозможность для себя писать по заданию, вспоминал «Человека из ресторана», написанного вольно. Ему было совершенно ясно, что он чужд современной литературной ситуации. Он принципиально ей не соответствовал.
Если классиков подгоняют под задачи дня, что же будет с его творчеством!.. В Достоевском, поражался он, увидели изобразителя отмирающих классов, чуть ли не писателя революций. Шмелев, конечно, мог бы теперь писать о человечестве, но ведь он напишет то, что не подойдет идеологам — ведь он вовсе не полагает человечество, тем более его одну часть, предпочтительную для большевиков, чем-то совершеннейшим и конечным. В алуштинском письме к Вересаеву от 20 ноября — 3 декабря 1921 года он рассуждал о том, что беспартийному писателю теперь «каюк», ему трудно найти приют его вольной мысли, в отличие от партийного, у которого «не разойдется слово и образ с его душой»