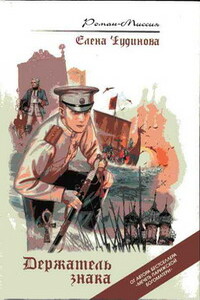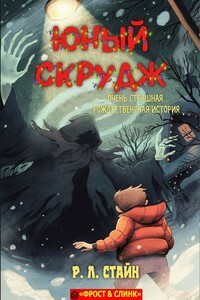Декабрь без Рождества | страница 52
«Знаешь, мы с тобой дурно поступаем, — теперь Панна казалась спокойна. Румянец сошел с ее щек. — Родители сквозь пальцы смотрят на все наши встречи, мы ведь росли как родные. Только мы уж выросли. Единственно мужу с женой прилично такое. Обещайся мне, что больше такого не случится, покуда мы не поженимся, нето я с тобой больше никогда одна не останусь!»
«Панечка! — На Арсения жалко было смотреть. — Во-первых, муж с женой целуются в губы, а во-вторых, ну как я могу обещаться не целовать тебя?! Легче умереть! Когда мы еще поженимся, года через два, а то и через три, это целая вечность! Ну, позволь я завтра же приду к твоему папеньке руки просить? Он скажет, что для помолвки рано, но все одно будет знать наши намеренья. Ты же самое не разрешаешь…»
«Нет, Арсюша, не вздумай…»
«Да почему?!»
«Нет, неловко как-то… Стыдно даже! Не хочу! Уж станем вовсе взрослые, тогда как-нибудь спросимся…»
Панна не вполне понимала себя. Одно знала она наверное: когда тайна их выйдет наружу, сие будет концом старой компании. Не только потому, что могут раздружиться Арсюша и Сережа, который весь последний год тоже ищет малейшей возможности побыть с нею наедине, но просто всем сразу станет как-то не так при наличии жениха да невесты. Не охота, вовсе не охота выходить из теплой доброй детской, век бы в ней оставаться, ведь оно так беззаботно и весело! Арсюша и без того с нею каждый день, к чему взрослеть? Что меж ними есть нечто особое, что он ближе ей не только Сережи, но и Платона, она поняла с тринадцати еще лет, с пустяка, сущего пустяка. Было то в Камышах, в один из дождливых насквозь, сумрачно темных летних дней, когда так невыносимо досадно сидеть в комнатах, а на двор не высунешься. «Право, коли завтра не прояснится, я слягу с мигренью, — пожаловалась госпожа Медынцева компанионке. — Так, должно быть, алеуты кричат, да и то не всегда! От их крика нельзя спрятаться, он несется по всему дому! Стоит детям не подышать свежим воздухом, как начинают беситься, словно одержимые. Пусть Татьяна им сладких пирожков, что ли, подаст, что от десерта остались, может их хоть лакомство утихомирит ненадолго!» Пирожки с земляникой не утихомирили, но послужили поводом к буйному, с хохотом, дележу. Выхватив из-под носа Арсюши уже надкушенный им пирожок, Панна, смеясь, убежала вверх по лестнице, где начала, дразнясь, доедать добычу. И, проглотив последний кусочек, вдруг перестала смеяться. Что-то было не так. С младенчества она была невероятная брезгливица. Почему же она теперь не побрезговала надкушенным? С этого Панна начала примечать другие странности, вроде бы и не предосудительные, но вместе с тем такие, что о них никому невозможно было поведать. Самое странное, только перед ним она не боялась оказаться некрасива — накусают ли лицо комары, падет ли на руки загар. Отчего-то знала она, что в глазах товарища детских своих лет попросту не может она, Панна Роскофа, быть некрасивой. Странности между тем все множились. Однажды Арсений все никак не мог красиво приколоть бутоньерку к отвороту, и Панна взялась помочь ему. Арсений еще не выпустил фарфоровой вещицы из своих пальцев, когда Прасковья за нее ухватилась своими. Персты их соединились, а в следующее мгновение произошло вот что: словно бы все остальное тело перестало существовать, во всяком случае — ощущаться, все средоточие жизни осталось в пальцах, и только там, где они соединились с пальцами друга. Зато как билась она в кончиках пальцев, эта сила жизни! Откуда она знала, что Арсений ощущает то же самое, что сквозь них словно проходит какая-то невидимая магнетическая сила, одна на двоих? Она знала, потому что, когда нескончаемо долгое мгновение миновало, оба они безумно смутились. Никто ничего не заметил, да и было ли что замечать?