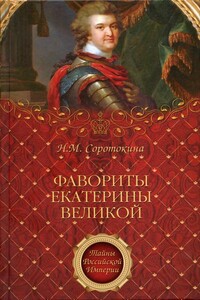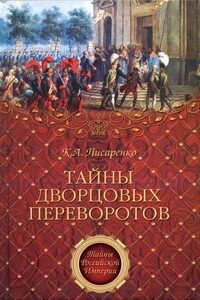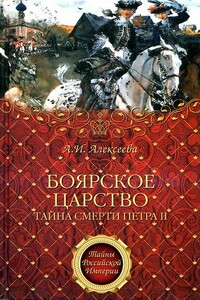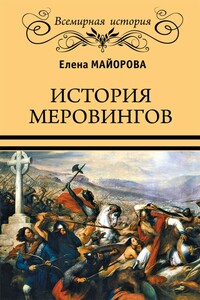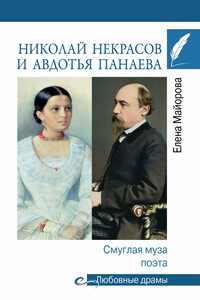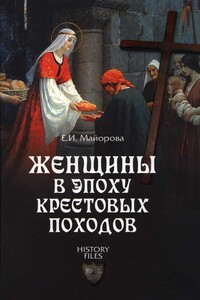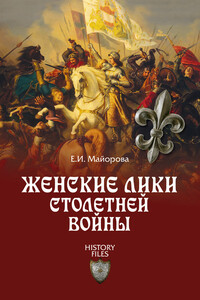Личная жизнь Петра Великого. Петр и семья Монс | страница 48
Годы правления Натальи Кирилловны остались в истории как время «наибольшего падения первых фамилий, а особливо имя князей было смертельно возненавидено и уничтожено», когда всем распоряжались господа вроде Нарышкина и Стрешнева.
Правление Нарышкиной представлялось современникам эпохой реакции против реформаторских стремлений Софьи.
А царица Евдокия все чувствовала правильно. Петр действительно к ней вернулся. И 19 февраля 1690 года на свет появился царевич Алексей. Радости Петра не было предела. Он ликовал, не мог усидеть на месте, бегал, кричал от счастья, целовал Евдокию и мать. Сжимая хрупкие плечи жены, он чувствовал к ней такую же любовь, как в первый медовый месяц.
Рождение престолонаследника было отмечено в Москве грандиозным празднеством, которое происходило в Кремле. После торжественной литургии сразу в трех соборах — Успенском, Архангельском и Благовещенском — ликующий Петр в Передней палате угощал думных и ближних людей «кубками фряжских питий», а московское дворянство, стрелецких полковников, дьяков и богатых купцов — водкой. Правда, скоро он умчался к своим потешным друзьям — пить, гулять и веселиться. Измученная Евдокия тоже была счастлива: она выполнила свой долг перед мужем и государством и упрочила свое положение, даровав стране наследника.
Но опасность подстерегала Евдокию с другой стороны. Исходила она из Немецкой слободы.
Судьба избирает Анну Монс
Алексей Толстой убедительно изобразил жизнь иностранцев в России за высокой стеной в собственном мирке, практически изолированном от остальной Московии, написав, что так повелось «издавна». Это «издавна» стало литературным штампом, расхожим заблуждением. Известная исследовательница Петровской эпохи Нина Молева доказывает, что на протяжении всего XVII века Немецкой слободы на Кукуе, у села Преображенского и любимого дворца Петра I, попросту не существовало. Сгоревшая дотла в пожаре 1611 года, она оставалась пепелищем вплоть до 1662 года, когда эти земли начали раздаваться под застройку преимущественно иностранцам. Наверное, новая Немецкая слобода действительно производила впечатление на попавшего туда москвитянина. Но и между Тверской-Ямской и Малой Дмитровкой располагалась «испокон веку» слобода собственно Немецкая. У Воронцова поля — Иноземская, которая еще в 1638 году имела 52 двора. У старых Калужских ворот — Панская. На Николо-Ямской — Греческая. В Замоскворечье — Татарская и Толмацкая, где издавна проживали переводчики. А в появившейся после взятия Смоленска Мещанской слободе, где селились прежде всего выходцы из польских и литовских земель, уже в 1648 году, через 12 лет после основания, насчитывала 692 двора. Таким образом, каждый седьмой житель Москвы являлся иностранцем.