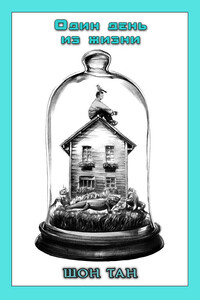Экспресс «Надежда» | страница 37
«И маленький тревожный человек…»
— Ослы от схоластики и теологии утверждают, будто моя философия унижает человека, — чуть хрипловатый голос Ноланца дрожал от негодования. — Жалкие глупцы! Я раскрыл людям величие Вселенной, безбрежные миры космоса! Возвысил человека.
«… С блестящим взглядом, ярким и холодным…»
— Освободил его дух и разум из темниц богословских догм!
«…Идет в огонь…»
— Уже ради одного этого стоило жить и бороться!
— Вы правы, синьор Джордано, — мягко произнес Миклош.
— Мне твердят: «Смирись, жалкий раб! Отрекись, раскайся, моли о помиловании!» Отречься от истины? Никогда! Этого они от меня не дождутся!
На некоторое время за столом воцарилось молчание. Иван открыл глаза и удивленно заморгал: Миклош улыбался! Улыбка, даже такая, как у Миклоша, — болезненно-грустная и робкая — все равно воспринималась как кощунство после всего, что только что говорил Джордано.
— Чему вы улыбаетесь? — по-русски, чтобы не понял итальянец, негромко спросил Иван.
— Разве? — Радноти низко опустил голову и зябко передернул плечами.
— Что с вами? — всполошился Джордано. — Сердце?
— Так, пустяки. — Миклош выпрямился. — Мы тут не очень-то откровенничаем между собой, синьор Джордано. И вы, конечно, обратили внимание. По-моему, пора внести ясность. Как вы считаете, Иштван?
— To know who is who, — кивнул Иван, — just time[17].
— Мы с Иштваном попали сюда из двадцатого века.
Итальянец сложил губы трубочкой, чуть слышно присвистнул.
— Впрочем, я примерно так и предполагал.
— Но дело даже не в этом. Дело в том… Ну, вы уже поняли, при каких обстоятельствах попадают на экспресс «Надежда»?
— С порога вечности, — улыбнулся Джордано.
— Вот именно. — Трудно было сказать, чего больше в ответной улыбке Миклоша — юмора или тоски. — Я поэт, синьор Джордано. И, наверное, лучше скажу стихами:
… И подозренья осторожный взор меня казнит; он правильно заметил: поэт, я годен только на костер за то, что правды я свидетель, за то, что знаю, зелен стебелек, бел снег и красен мак, и кровь красна струится, и буду я убит за то, что не жесток, и потому, что сам я не убийца.
Радноти вздохнул и, протянув руку через стол, опустил ладонь на запястье Джордано.
— Вы философ и лучше разбираетесь в этих делах. Но факт остается фактом: через триста с лишним лет после вас ситуация повторилась — костры, виселицы, пытки… Разве что палачи одеты в мундиры да инквизиция называется по-другому.
— Как? — хрипло спросил Джордано.
— Фашизм.
— Фашизм… — повторил итальянец. — Какое мерзкое слово. Есть в нем что-то змеиное.