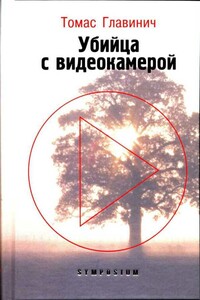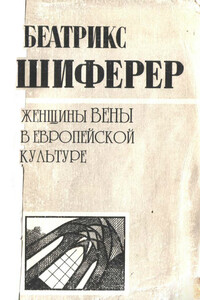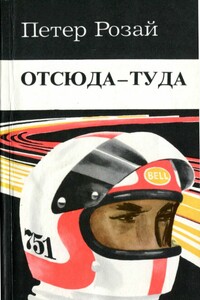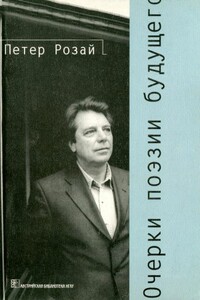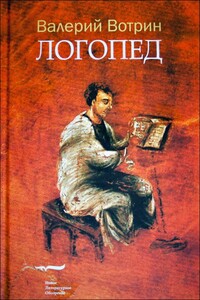Мужчина & Женщина | страница 32
Поскольку у него никого не было, он пошел к врачу. Ему он рассказал: Я не могу спать. Как только я ложусь, какая-то рука хватает меня за загривок и засовывает в душную, тесную щель, где я беснуюсь как горилла, почти не сознавая, что делаю, и чувствуя при этом свое полное бессилие.
Собственно говоря, я вовсе не беснуюсь: я только со страхом вглядываюсь в темноту, с тем ужасом, который знаком лишь детям. Мои мышцы работают, но от этого не происходит никакого движения, никакого продвижения вперед. И при этом внутри нестерпимо жжет: стыд! Потому что ведь я мог бы принести столько пользы!
Постарайтесь меньше пить, сказал врач.
Нередко Гельмут на всю ночь оставался в своей фирме, продолжая работать. Склоняясь над столом с приборами, опытными установками и бумагами, он чувствовал себя сильным и уверенным. Его руки словно принадлежали кому-то другому, но вместе с тем он смотрел на них с любовью, когда, например, они связывали узлом два шнура или затыкали бутылку пробкой: Они что-то знают! — Если работа спорилась, он чувствовал, как крепнут от усилий его мышцы и кости, как в глубине его глазниц образуется какое-то светлое, лучистое вещество, а его дыхание становится громким и хриплым, как у волка из сказки. Ему нельзя было уставать. Только не уставать! Как бы там ни было, он держался дороги, или, может быть, удерживался на какой-то узкой воздушной границе, или, как это бывало чаще всего и чем всегда все кончалось, он забивался в требовательно зовущую его щель, где бушевал огонь, в черную печную щель своего будущего, просто потому, что щель звала его, и огонь хотел гореть.
Смерть превратилась для Гельмута в абсолютно наглядный образ: огонь угасает. И он непременно угаснет, когда ты отдашь все. Он охотно соглашался, что внутренний риф, в который врезалась его жизнь, это одиночество. Иногда он представлял себе людей, которых знал и с которыми был близок, в виде пестрой толпы скоморохов, перебирающихся через сказочно-синюю гору, каких не бывает на свете. Его развлекала эта картина. От одной только возможности действительно прикоснуться к кому-нибудь, словами или руками, его прошибал пот, кровь застывала, превращаясь в блестящие капельки страха: в кончиках пальцев, на губах, в глубине головы. Он искренно любил бывать один; и чем глубже он от этого падал, — внизу была полная беспомощность, — тем приятнее ему было: он знал, чем заняться, мог заново собираться с силами, распрямляться, взбираться наверх.