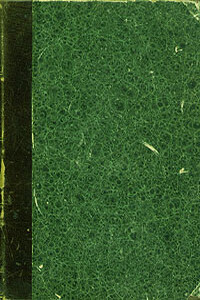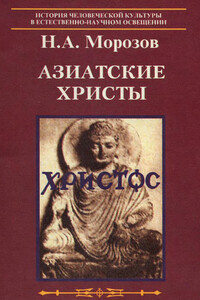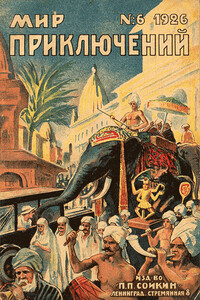Повести моей жизни. Том 2 | страница 160
Теперь я уже близко подхожу к концу первого периода моей деятельности, приведшему меня после освобождения из темницы естественным путем к деятельному участию в организации «Народной воли», боровшейся против самодержавия с оружием в руках.
Дикий поступок Трепова с Боголюбовым был последней каплей, переполнившей чашу горечи как в моей душе, так и в душе товарищей и давшей нам ту закалку, которой ранее у нас, мечтавших лишь о счастье всех людей, совершенно не было.
После приезда Трепова я прожил в своей темнице еще около полугода. Меня в это время снова возили в Москву, так как заподозрили, что неизвестный рабочий, ведший пропаганду под Троицей-Сергиевой, был я. Но вызванные для опознания меня крестьяне все единогласно заявили, что к ним приходил другой, хотя по смущенному выражению их лиц и блуждающим глазам, боявшимся встретить мои, было ясно, что они все меня отлично узнали и только из сочувствия не хотели выдавать.
Это меня очень сильно растрогало, тем более что в большинстве случаев с моими товарищами крестьяне из страха за себя сейчас же выдавали их.
В Москве меня посадили в место политического заключения, временно устроенное при Арбатской части, где я познакомился посредством разговора через двери с одной из симпатичнейших деятельниц того периода — Бардиной, — производившей тогда на всех обаятельное впечатление, но потом, через несколько лет, упавшей духом и умершей от тоски и безнадежности в эмиграции.
И на пути в Москву, и на обратном пути через десять дней я не мог думать, как ранее, о побеге, потому что в результате перенесенной болезни у меня осталась сильная атония пищеварительных органов, требовавшая ежедневных лекарств и порошков. Вот почему меня без всяких приключений привезли обратно в Дом предварительного заключения, где вручили под расписку толстый том под названием «Обвинительный акт по делу о преступной пропаганде в Российской империи»[34].
Было привлечено на суд особого присутствия сената сто девяносто семь человек, едва перешагнувших через свое совершеннолетие и уже совсем измученных долгим заключением. В числе их находился и я. Но из нас во время самого суда умерло четверо наиболее ослабевших, и потому процесс получил название «Дело ста девяноста трех».
Возмущенные произведенными в предъявленном нам «акте» извращениями, свидетельствовавшими о крайней пошлости его составителей, мы почти все решили отказаться от своих защитников и от всякой защиты вообще. Это представлялось нам тем более последовательным, что мы морально не признавали над собой никакого суда, кроме третейского между нами и правительством, т. е. суда присяжных или иностранного. Суд сенаторов представлялся нам просто комиссией расправы наших врагов над нами, а следовательно, и извращением идеи правосудия.