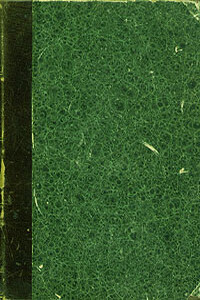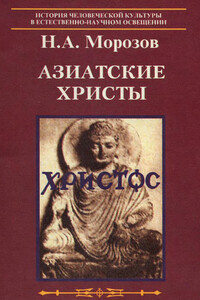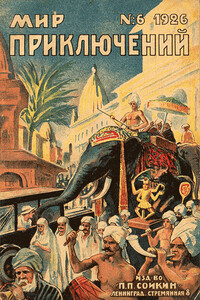Повести моей жизни. Том 2 | страница 111
— Этот Яблоновский хороший доктор? — спросил я отца еще раньше, чем он подошел ко мне.
— Хороший, — ответил он, садясь. — Только нигилист. Ты будь с ним осторожнее, а то опять попадешься.
Он помолчал немного.
— Сегодня мы обедаем у Селифонтова, — сказал он. — Там будет и твой бывший товарищ, Протасов. Он теперь поступил в Николаевское кавалерийское училище.
— Значит, бросил гимназию из-за древних языков?
— Не думаю. Вероятно, он просто предпочел военную карьеру. Потолкуй с ним. Может быть, захочется и тебе. Эту молодежь ты можешь навещать и приглашать к себе, сколько тебе угодно.
К шести часам вечера мы были уже у Селифонтова в его огромном и роскошном доме в Измайловском полку. Это был наш сосед по именью, меценат всяких художеств и самый близкий друг моего отца.
Несмотря на свои миллионы, картинные галереи и роскошные дворцы, один в Москве, а другой в Петербурге, он открыто презирал всякую внешность, считал себя народником по убеждениям, а потому и дома, и в гостях ходил не иначе как в красной рубашке и плисовых штанах, вправленных в голенища смазных сапог, предварив этим Льва Толстого лет на двадцать. Выходя на улицу, в театр, в дворянские и всякие другие собрания, он надевал еще поверх этого поношенную синюю поддевку и такую же смушковую шапку.
— Куда ты лезешь, рыло! — кричали ему городовые, когда он вступал в таком виде на парадные лестницы общественных собраний.
А он только ухмылялся с довольным видом и представлял им свою визитную карточку с дворянской короной наверху. Ему часто не верили и, если не было поблизости распорядителя, который выручал его, тащили в полицию, где он торжественно и важно заявлял жалобу на грубое обращение с ним городовых.
Там наводили справки и удостоверялись, что это «известный чудак-миллионер».
Его с тысячами извинений отпускали домой и наконец разослали всем городовым его приметы, чтобы более не было таких «недоразумений». Он очень любил, всегда с громким хохотом, рассказывать о своих приключениях, считал себя либералом и платонически сочувствовал английскому образу правления, точно так же как и мой отец. Но и он тоже не решился бы из страха перед Третьим отделением шевельнуть для достижения такого строя хоть одним пальцем. Однако он был много экспансивнее моего отца.
— А, здравствуй, Коля! Как ты поживаешь? — воскликнул он, встречая меня наверху лестницы, опять совершенно так же просто, как и все другие знакомые отца, словно мы только вчера расстались, и, как бывало в детстве, поцеловал меня. — От мамаши из деревни были известия?