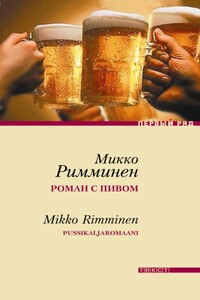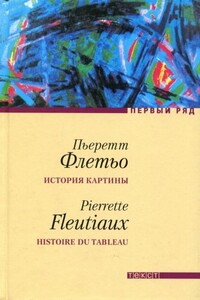Счастливые несчастливые годы | страница 15
Вечером, улегшись в постель, я все еще слышала аплодисменты, которыми наградили Фредерику. А моя соседка подпиливала ногти. Ночью, когда нелегко заснуть, приходится приглашать к себе сон, и минуты ожидания тянутся долго. Приведя в порядок ногти, соседка говорит мне «Gute Nacht». И кладет руки поверх одеяла, чтобы их видели те, кто явится к ней ночью — приглашать на бал. Она принимала эти ночные приглашения с улыбкой, показывая ямочки на щеках. Эта девушка приехала из Нюрнберга, где у ее отца было какое-то GmbH[6]. И едва успела увидеть солдат, марширующих «гусиным шагом», и герань на окнах. Мы никогда не говорили о войне, о ее родном городе, дотла разрушенном бомбежкой, а затем восставшем из руин. Эта девушка, в ночных грезах танцевавшая на балу, выросла среди развалин. У нее тоже когда-то был дом с геранью, чьи листья никли от тоски, когда на улице заканчивался парад. Под ее окном, чеканя шаг, проходили воины вермахта, а мать держала ее на руках — крошечный сверток в украшенном лентами одеяле и чепчике.
И при этом мать бросала вниз цветы, как в театре бросают букеты на сцену? Об этом надо было спрашивать у нее, в то время, когда мы спали в одной комнате, а война закончилась всего несколько лет назад. Моя соседка никогда не произносила слово «Krieg»[7], так же как слова «нацизм» и «Гитлер». Я могла бы у нее спросить: «Ты видела Гитлера?» Для меня ее присутствие было лишь оптической данностью, я воспринимала ее тело как иллюстрацию в книжке, знала ее так же, как знала мой полупустой шкафчик, — мне было известно, что там, в глубине, карандаш и тетрадка. А еще — письмо, какие-то сувениры, носовой платок, ключ. Снабженный номером шкафчик, маленький уютный морг, в котором хранились наши мысли и мечты.
Всякие вещицы, которым мы придавали значение и которые могли не запирать на ключ. А могли и запереть. Этот вопрос дирекция оставляла на наше усмотрение. Ключ — это был символ. Содержание, которое за нас вносили, было весьма высоким, поэтому в него мог быть включен и символ. Однако сам по себе символ не оплачивался, а, следовательно, настаивать на нем было нельзя. Я никогда не пользовалась ключом. Но не потому, что презираю символы: просто у меня не было прошлого, а значит, не было и секретов. Фредерика видит, что шкафчик у меня пустой и незапертый. У меня нет имущества.