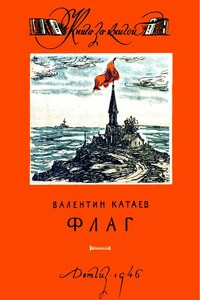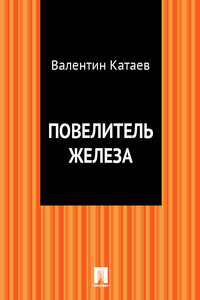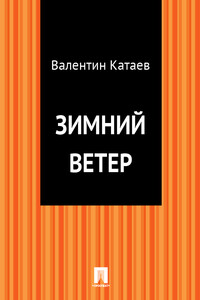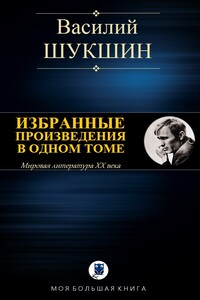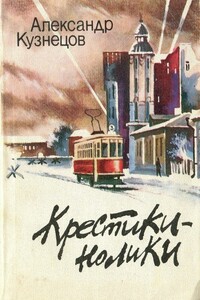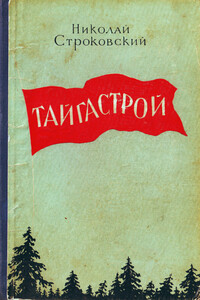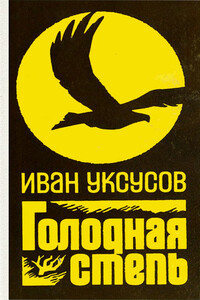Кладбище в Скулянах | страница 7
Из этого можно заключить, что Батюшкову удалось избежать, как тогда привыкли выражаться, «цепей Гименея» и благополучно улизнуть от своей немочки, чего нельзя сказать о моем прадеде.
В письме одной из моих сентиментальных теток, занимавшейся семейной хроникой, написано:
«…у пастора Крегера была дочь Мария 16 лет, которая, ухаживая за молодым раненым офицером, сильно полюбила его. Молодой человек, в свою очередь, тоже не был равнодушен к Марии. Молодые люди, не желая расставаться друг с другом, испросив разрешения у родителей Марии и получив от них согласие на брак, отправились на лошадях в далекую, неведомую для молодой женщины Россию, в Бессарабию, где находилось имение ее мужа. Мария перешла в православие и больше ни своей семьи, ни своей родины уже никогда не видела».
Воображение живо нарисовало мне это романтическое свадебное путешествие на почтовых из Гамбурга до Скулян, через города Восточной Европы, потревоженной недавним нашествием наполеоновских армий, ночевки на постоялых дворах и так далее…
Название Скуляны — самая фонетика этого слова — возбудило в моем сознании представление о чем-то некогда хорошо мне знакомом, но забытом, как музыкальная фраза, которую иногда бывает трудно восстановить в памяти. Я готов был поручиться, что никогда не бывал в Скулянах. Тем не менее при самом звуке этого слова возникала неясная, романтическая картина, с трудом различимая в тумане прошлого.
Но вот однажды, перечитывая Пушкина, я обратил внимание на заключительную фразу повести «Выстрел»:
«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».
Так вот оно что!
Что же это было за сражение под Скулянами?
Я стал один за другим перелистывать синие томики Пушкина, его заметки, рассказы, письма.
Вот несколько слов из письма Вяземскому:
«Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном».
Нетрудно представить молодого опального поэта, увлеченного романтикой Гетерии, борьбы за освобождение Греции, вдыхающего ветер Свободы, пронесшийся над дунайскими княжествами, над живописными холмами и кодрами Молдавии. Его увлекли характеры инсургентов. Кажется, он сам готов был, подобно Байрону, поднять оружие за свободу, в сущности, чуждой ему Греции — только потому, что в те дни Греция была символом свободы.