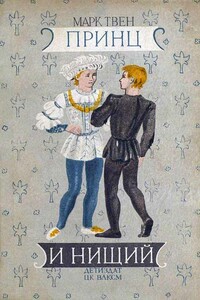Тверской гость | страница 122
В Кашане, этом городе гончаров и бумазейщиков, он прожил целый месяц. Был разгар лета. Липкий пот, круги в глазах, дрожащий от зноя воздух, багровые лица жителей. Удушливые ночи. Бессонница. И снова пыль, солнце, зной… На базаре — полосатые навесы над лавками, шум гончарных кругов, звон поливной посуды, глазурь, глазурь, глазурь! Тут продавали и шелка, и финики, и скот, и орехи, и медные изделия, но самой дорогой, самой ценной была посуда. Ее называли фаянсовой. Она удивляла — все эти блюда, кувшины, горшки. Белая как снег, с синей, алой, зеленой, желтой поливой, с золотистым отблеском, с изображениями людей, коней, мечетей, зверей. Такой на Руси не было. Посуда играла красками, звенела, переливалась — тонкая, красивая. Не довезешь много-то!
Никитин долго искал попутчиков в следующий город, Йезд. Тот, говорили, был богаче. На всякий случай рискнул: прикупил чудной золотистой посуды. Ушло двадцать золотых.
Наскучив хождением по городу, однообразному, с примелькавшимися, наконец, куполообразными крышами домов, он стал сидеть в караван-сарае.
Тут тоже вели торг, играли в кости и шахматы. Игра шла на деньги. Он долго не решался. Проиграешь — не вернешь. Потом сел. Выигрывал, выигрывал, выигрывал… Проиграв тридцать золотых, его противник, бледный, выложил деньги. Он их взял. Зрители шумели, требовали угощения. Купил вина, угощал новых друзей. И заметил пристальный, мрачный взгляд проигравшего. Тот смотрел на его шею, на цепочку нательного креста. Афанасий с трудом поднялся, незаметно ушел в свою каморку. Голова кружилась, хмель не проходил, но ощущение опасности было остро. Не колеблясь, он снял крест. Совершал тяжкий грех. Но глаза проигравшего стояли перед Никитиным… На другой день в глухом проулке его окружили незнакомые люди, рванули халат, обнажили грудь. Он отшвырнул ближайших, вытащил кончар.[53] Но злодеи, перекинувшись словами, тихо, по-кошачьи обошли его, скрылись.
Он дал себе слово не играть на деньги и не пить. Азарт и вино чуть не погубили.
И вновь пылили дороги, ревели мулы, обжигало солнце. Чуть не погибнув во время самума, добрались до Йезда. У первого канала долго пили пыльную воду. Пальмы оазиса шумели с непривычным жестким шумом. В ворота едва достучались. Был уже вечер, горожане боялись разбойников.
Это был город зелени, мечетей и шелка. Но он уходил под землю. Песок засыпал его, и дома, сады, жавшиеся к арыкам, кяризам и плодородной почве, стояли ниже улиц. Улицы — песчаные насыпи — плыли над погребаемым заживо городом, и иной минарет высился над ними уже не больше чем в рост человека.