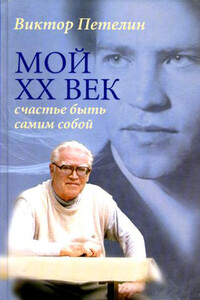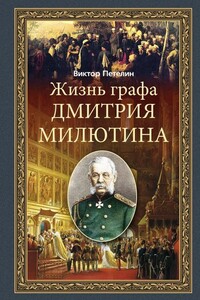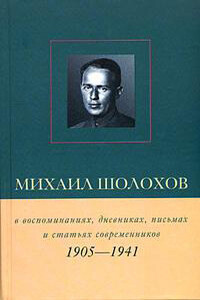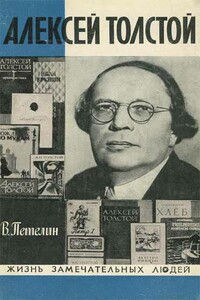Восхождение, или Жизнь Шаляпина | страница 2
В повести В. Петелина Шаляпин предстает как внешне простой, порою даже простоватый человек. Правда, он трудолюбив, он любознателен, но то, что он читает, изучает, претворяется им чудесным образом, требующим глубочайших раздумий. Немалой заслугой писателя мы вправе считать то, что его книга вызывает раздумья, необходимые для того, чтобы понять внутреннюю сущность факторов биографии гения. Именно об этой сущности и хочется сказать несколько слов.
Шаляпин был наделен прекрасным голосом очень большого диапазона, идеальным музыкальным слухом и памятью. Его одаренность проявилась не только в музыке, а и в живописи, графике и скульптуре. Но очень рано обнаружилась и неодолимая потребность в художественном высказывании. Впрочем, по-видимому, пение, погружение в стихию народной песни, восприятие ее дивных богатств и умножение их своим искусством уже в юношеские годы Федора Ивановича покорило всех, слушавших его. Напомним еще раз, что то было восприятие гения, постигавшего не только интонацию песни; но и декламационную выразительность слова — «великого русского слова», спасти которое от варваров, посягнувших на нашу жизнь, честь и культуру, поклялась от имени русского народа через три года после смерти Шаляпина слушавшая его в юности Анна Ахматова в стихотворении «Мужество».
И в своем восхождении к вершинам Шаляпин вслушивался в русскую речь — прежде всего и более всего в пушкинскую речь, величие и красоту которой он воспринял с такой же чуткостью, как очарование русской природы. И очень скоро пришла к нему жажда познания истории родного народа, сказочных «преданий старины глубокой», истовости русских летописцев, жизненного уклада крестьянского люда и событий, связанных с именами властодержцев земли Русской. И, постигая все это, Шаляпин создавал потрясающие образы Ивана Грозного, преступного царя Бориса, мудрого летописца Пимена, князя Мышецкого, ставшего расколоучителем Досифеем, былинного витязя Руслана, побеждающего «исключимую силу», костромского крестьянина, жизнью своей жертвующего во имя Родины, обездоленного Мельника.
Разумеется, Шаляпин исполнял многие партии не только в русских операх и не только на русском языке.
Именно период работы в Мамонтовской опере, с которой были связаны многие русские певцы, музыканты и художники, где воплощались на сцене пушкинские образы, где звучало бессмертное пушкинское слово, сыграл решающую роль в утверждении национального своеобразия творческого облика великого певца, о чем и пишет автор «Восхождения». Подчеркнем также, что Шаляпин на протяжении всей своей жизни читал, декламировал и пел стихи Пушкина, глубочайшее проникновение в смысл и звучание которых способствовало созданию такого шедевра, как образ Сальери в «музыкальных сценах» Римского-Корсакова, написанных (так же как «Каменный гость» Даргомыжского) на неизменный пушкинский текст. Великий композитор сам отмечал этапное звучание этого произведения, в котором (как он указывал в «Летописи моей музыкальной жизни») «мелодическая ткань, следящая за изгибами текста, сочинялась впереди всего» (выделено мною. — И.Б.).