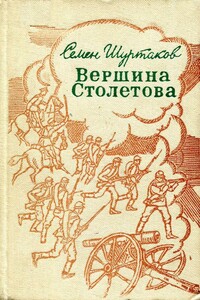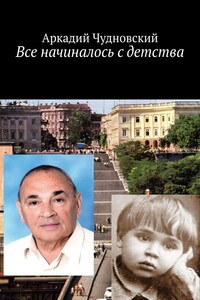Горький хлеб | страница 47
— А молятся басурмане так. Поначалу полбарана съедят, потом кафтаны с себя скидают, становятся друг против друга и по голому брюху дубинками постукивают да приговаривают: "Слава аллаху! Седин живот насытил и завтра того пошли".
— Чудно‑о, ‑ протянул, крутнув головой, Тимоха. ‑ А дальше што жа?
— Опосля татаре вечером кости в костер бросают, а пеплом ладанку набивают. Талисман сей к груди прижмут, глаза на луну выпучат и бормочут, скулят тоненько: "И‑и‑иаллах, храни нас, всемогущий, от гладу и мору, сабли турецкой, меча русского, копья казачьего…" Вот так и молятся, покуда месяц за шатром не спрячется.
— А не врешь? ‑ усомнился Тимоха.
— Упаси бог, ‑ слукавил скиталец и, протянув холопу порожнюю чашку, вопросил:
— Болотниковы в темнице:
— Сидят. Кормить их три дня не ведено. Отощают мужики. Приказчик страсть как зол на смутьянов. До Леонтьева дня, сказал, не выпущу, словоохотливо проговорил Тимоха.
— А как же поле пахать? У Исая три десятины сохи ждут.
— Почем мне знать. Наше дело холопье ‑ господскую волю справлять.
Пахом озабоченно запустил пятерню в бороду, раздумчиво крякнул и, когда уже холоп повернулся к решетке, решился:
— Покличь ко мне Мамона, парень.
— Недосуг ему. Дружину свою собирает беглых крестьян по лесам ловить.
— Скажи пятидесятнику, что Пахом ему слово хочет молвить.
— Не придет. Пошто ему с тобой знаться.
— Придет, токмо слово замолви. А я тебе опосля о казачьем боге поведаю.
— Ладно, доложу Мамону Ерофеичу. Токмо не в себе чегой‑то пятидесятник, ‑ пробурчал Тимоха и удалился из темницы.
Княжий дружинник заявился в застенок под вечер. Поднял фонарь над головой и долго, прищурив дикие разбойные глаза, молча взирал на скитальца. Опустив цыганскую бороду на широкую грудь, тяжело и хрипло выдавил:
— Ну‑у!
"На царева палача Малюту Скуратова, сказывают, пятидесятник схож. Лютый мужик. Младенца задушит ‑ и оком не поведет", ‑ пронеслось в голове Пахома.
— Не ведал, что снова свидеться с тобой придется, Думал, что князь тебя давно сказнил за дела черные.
— Рано хоронишь меня, Пахомка. Седня о тебе за упокой попы петь зачнут.
— Все под богом ходим, да токмо поскриплю еще на этом свете и волюшку повидаю.
— В тюрьму двери широки, а обратно узки, Пахомка. Молись богу да смерть примай.
— Не тебе, злодею, меня судить. Я человек княжий.
— Раньше бы князю на меня доносил. Теперь припоздал. Скажу князю, что ты его мерзкими словами хулил. Простит он меня за бродягу никчемного. Пощто ему мужик захудалый.