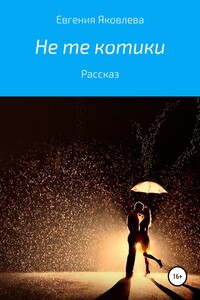Отец Джо | страница 60
— Нет, Тони, нет, дорогой мой… contemptus mundi означает именно «отстраненность от мира», отношение к миру sub specie aetemitatis.[17] Который либо стоически переносят, либо радостно славят, но ни в коем случае не забывают, даже когда он кажется совершенным и вечным — в Библии по этому поводу говорится: «Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек».[18]
Помню, как однажды отец Джо резко возразил в ответ на мою восторженную, полную благочестивой чепухи тираду насчет святости общины и ее высокого назначения:
— Господь с тобой, дорогой мой! Мы же не старые, выжившие из ума попы, день-деньской талдычащие молитвы. Нам ведь есть чем заняться!
Помню, как я тогда рассмеялся, хотя и не без замешательства. Но потом понял, что подобные высказывания были как раз в духе отца Джо, не страдавшего напыщенным благочестием, мыслившего как человек, прочно стоящий на земле и обладающий невероятной широтой взглядов на вещи обыденные. Что бы он ни сказал, оно исходило из глубокого колодца великодушия. Отец Джо сам вырыл этот колодец и наполнил его до краев за те десятилетия созерцания, в течение которых постигал людей. И какие бы изъяны, оправдания или причуды ни были свойственны людям, какими бы скучными люди ни казались, он любил их от всего сердца. И его всепроникающая мягкость происходила из непосредственных суждений о мире и своей задачи в нем. Которой была любовь.
Помню, как однажды я присутствовал на утренней мессе в монастырской крипте и золотисто-оранжевые лучи восходящего солнца пробивались через узкие прорези оконцев. Та самая крипта, вместилище кошмаров моего первого дня пребывания в аббатстве, на самом деле оказалась местом священных таинств, катакомбой, пещерой волшебника Мерлина, перешедшей к христианам, вертепом, непостижимым для человеческого понимания. Омываемые золотистым сиянием священнослужители шептали молитвы у алтарей, каждый из которых был освещен двумя свечами. Я встал на колени рядом с отцом Джо, на этот раз облаченным в белую с красным ризу (единственный раз, когда в нем можно было узнать католического священника); преображенный священник, закрыв глаза, шептал каждое латинское слово наизусть (хотя молитвы и менялись каждодневно), смакуя их растянутыми в улыбке губами, которые сжимались и разжимались — он как будто с наслаждением вкушал вино.
Во время второго или третьего приезда в аббатство я начал знакомиться и с остальными монахами. Мое первоначальное впечатление единства, даже безликости монастырской братии оказалось ошибочным. Аббатство приютило монахов со всех уголков мира: учтивого, со светскими манерами и неистребимой привычкой к курению бывшего банкира из Вены (поговаривали, будто он — еврейский выкрест); нестареющего, энергичного карлика из Мальты, смуглого как конкер; наезжавших время от времени итальянцев; одного-двух немцев; толпы французов; высокого полного монаха с безупречным британским произношением, похожего на члена кабинета министров в передаче о программе защиты свидетелей, который буквально разрывался между аббатством и Лондоном, где пропадал с какими-то загадочными поручениями, имевшими отношение к иезуитам и кардиналам…