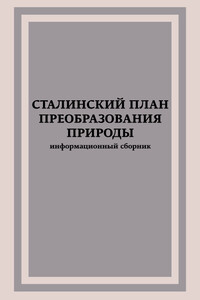Откровения телевидения | страница 44
Но ведь я же хорошо знаю, что за красным глазком меня видят и слышат. И ощущаю контакт такой же уверенный, словно говорю со зрителями по телефону. А это обеспечивает посыл и свободную интонацию. Как воспринимает при этом мои слова зритель, я должен определять сам, опираясь на опыт общения с публикой в зале. Если я чувствую, что мне удалось вызвать в себе те же эмоции, которые я испытываю, общаясь со зрительным залом, —
значит, контакт налажен и с той стороны. Но тока ответного в студии телевидения я чувствовать, разумеется, не могу. Как ни странно, но отсутствие обратной связи помогло мне во время передачи «Тагильской находки»: тут у телевидения оказалось преимущество перед залом. Я не видел и увидеть не мог — прослезились зрители или нет. И если даже они прослезились — это не могло заразить меня, не могло повлиять на других и вылиться в массовое рыдание. Почему? Да потому, что даже если кто
-
то из зрителей сидел тогда в филармонии, то у экрана он был уже не тот зритель, а телезритель. Это совсем иная аудитория, и руководят ею другие законы восприятия. Ибо телеаудитория, хотя она и едина —
разобщена между собой. И каждая ячейка смотрит и слушает отдельно от остальных и независима от реакции большинства. Законы массовой психологии ее не касаются. И в этой интимности телевидения — его неповторимо особые качества, притом что оно и всеобъемлюще, и всеохватно, и всесоюзно, и по природе своей всемирно. И, однако, скажу здесь к слову: как часто мы видим на телеэкране приемы, механически перенесенные из театра, с эстрады, смотрим картины, спектакли, созданные в расчете на массовую аудиторию. Неверно! Телевидение требует соблюдения своих, особых законов, ибо перед камерой вы со всеми наедине. И об этой дружеской атмосфере, которая возникает при общении с телезрителем, следует всегда помнить.
Рассказывая о тагильской находке, я обращался к друзьям, хотя никогда их не видел. Это особая и очень высокая дружба. И этой дружбе я не изменю никогда!
ГИЛЕЛЬС ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ
Г. Троицкая
На концертную эстраду выходит невысокий широкоплечий человек. Идет
он легко и быстро. Лицо его спокойно, быть может, даже подчеркнуто
спокойно. Он садится к роялю и начинает играть, оставаясь с виду таким
же спокойным — не запрокидывает головы, не вскидывает эффектно рук.
И только когда вслушиваешься в его игру, ощущаешь мощь человеческих
страстей, которым пианист не позволяет выплескиваться наружу, заключая их в безукоризненно ясные и строгие грани.