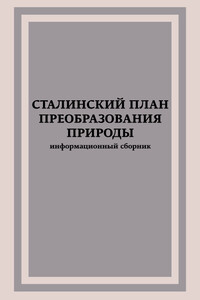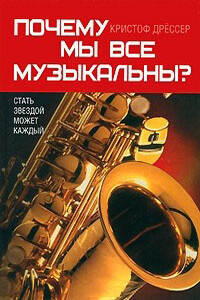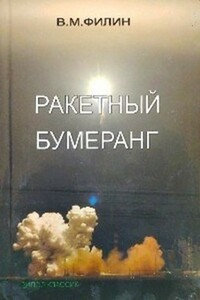Откровения телевидения | страница 43
Теперь я вышел с рассказом о Пушкине. Огромность зала снова меня поразила. Множество публики. Тема: «Пушкин — Карамзины» требует уловления множества имен, фактов, подробностей... Тема все
-
таки специальная. Будут ли слушать меня почти полтора часа?
Стараясь быть как можно более понятным, я стал рассказывать о Нижнем Тагиле, о семействе Карамзиных, о письмах, о том, как попали они на Урал, как нашлись... Наконец, дело дошло и до Пушкина. И тут публика стала слушать с напряженным вниманием. Это внимание взволновало меня. Когда же я дошел до письма Екатерины Андреевны Карамзиной «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью...», я увидел, что многие прослезились. К концу письма забелели платки.
И когда я произнес слова Софьи Карамзиной: «А я так легко говорила тебе об этой печальной драме в тот день и даже в тот час, когда совершалась... развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца, после получения этого гнусного анонимного письма...» —
я увидел на лицах выражение такого невыносимого горя, что едва сам мог говорить: охрип, горло перехватили спазмы. Сделал паузу, чтобы подавить волнение, а эта непроизвольная пауза отозвалась в публике. Я испугался, что зал зарыдает.
С великим трудом, стараясь читать без всякого выражения, я довел рассказ до конца. Пошел... Никто не зааплодировал, никто не встал с места. Стояла могильная тишина. Я был в отчаянии. Мне показалось, что это —
новый провал!
Поэтому никогда больше рассказа этого я с эстрады не повторял, решив, что есть документы, которые можно читать только глазами. Кстати, думаю, что это относится не только к письмам Карамзиных, но и ко многим произведениям прозы, никак не рассчитанным на произнесение вслух, тем более на огромной аудитории... Нет, оказалось, что в зале нельзя, а по телевидению «Тагильскую находку» исполнять можно. Почему? Постараюсь сейчас объяснить.
Принято считать, что выступающий по телевидению не ощущает контакта со зрителем, и это сковывает его мысль и тормозит речь.
Было бы странно с этим не согласиться.
И,
тем не менее, я, как и другие, уже привыкшие общаться с красным глазком телекамеры, ощущаю какую
-
то иную форму контакта. Ведь зрителя можно не только видеть, но можно воображать. Не смущает же нас то обстоятельство, что мы не видим нашего собеседника по телефону. Мы свободно произносим целые монологи, уверенные в том, что он слушает нас. И даже если разговор прервался, а мы не знаем об этом, — все равно говорим очень свободно и бойко, пока не поймем, что произносим слова впустую. Тут речь оборвется...