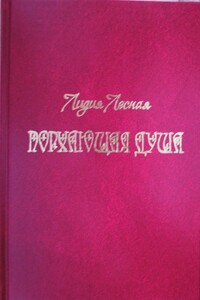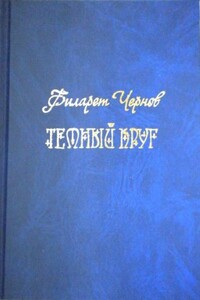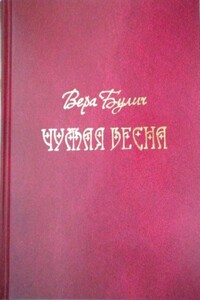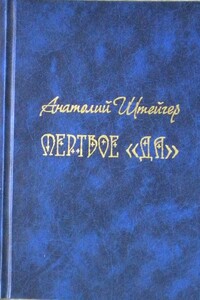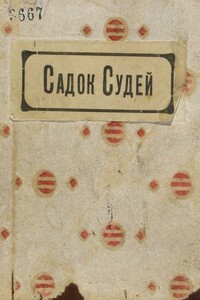Прошлогодняя синева | страница 27
В день 50-ти летия Парижской Коммуны.
Сборник стихов. Николаев, 1921.
ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ
В. Брюсов
<…> г. Зубовский и г. Курдюмов (Всеволод Курдюмов. Азра. СПб., 1912) заслуживают нескольких слов отдельно. Оба они типичны для современного «среднего» поэта, так как делают свои стихи умело; щеголяют рифмами, стараются не быть банальными. <…> У г. Курдюмова есть уклон к декадентству прошлых дней. Если автор молод, он может перерасти свой «средний» рост и подняться головой над другими. Но для этого ему почти все еще надо начинать с начала.
Валерий БРЮСОВ. Сегодняшний день русской поэзии. (50 сборников стихов 1911–1912 г.) «Русская мысль». 1912, № 7.
Н. Гумилев
<…> Стихи Павла (так в книге — В.К.) Курдюмова (Всеволод Курдюмов. Азра. СПб., 1912) как бы созданы для декламирования их с провинциальной эстрады. Мрачный романтизм, слезливая чувствительность и легкий налет гражданственности — в них есть все… Лихие окончания должны вызывать восторг галерки. Но русская литература — не провинциальная эстрада. От многого, очень многого придется отделаться Павлу Курдюмову и еще больше приобрести, если он захочет в нее войти.
Николай Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг. 1923. (Впервые опубликовано: «Аполлон». 1912. № 5.)
<…> «Пудреное сердце» Всеволода Курдюмова — одна из самых неприятных книг сезона, уже потому, что она крайне характерна для того бесшабашного эстетического снобизма, который за последнее время находит все больше и больше последователей и почитателей. В ней бесцеремонное обращение с русским языком даже не пытается прикрыться флагом какой-нибудь из новых школ, производящих опыты в этом направлении, иногда очень рискованные. В ней, как и в первой книге, актерские трюки «под занавес». В тех местах, где поэт думает подражать Кузмину, его неловкость доходит до крайних пределов. И страннее всего то, что они современны, эти стихи, они по плечу и должны нравиться посетителям кинематографов, запоздалым гимназистам и… всем около одиннадцати часов вечера гуляющим по Невскому. Но разве для «них» существует литература?