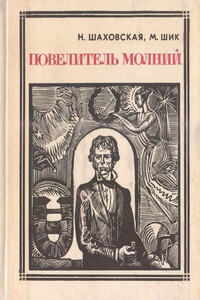Полёт | страница 36
Хозяином, начальником, законодателем, царём, богом и высшей инстанцией в казарме, где проходила поначалу вся наша новая жизнь, был старшина.
Вернее сказать — Товарищ Старшина.
Он был главнее даже товарища Сталина.
Чуть пониже старшины были назначенные из нас же старшие.
Это уже потом, когда нас разбили по отделениям и взводам. Обращаться к старшине положено было только с разрешения старшего. Вполне естественно, что если старший будет давать всем разрешение на обращение к старшине — он будет плохим старшим, поэтому старшие старались сами, как бог на душу положит, решать вопросы самостоятельно. Решение обжалованию не подлежало.
Старшие тут же заважничали: они даже выглядели на фоне всех нас, обстриженных под нулёвку, как-то вроде тоже начальниками, хотя стрижены были так же, и форма на них сидела, как и на всех нас, тоже мешком. Но они уже были начальниками.
И от такого вот пацана, которым ничем от меня не отличался, разве только тем, что старшина перед строем назвал его фамилию из списка и сказал, что это — старший, зависела моя судьба.
Это мне не нравилось.
У меня было гораздо больше оснований быть старшим: я летать начал с 14 лет, мой папа был лётчиком, офицером, я в аэроклубе учился не год, как он, а два и летал, кроме утёнка, ещё и на ПО-2 и планёре, я школу закончил отлично — и должен спрашивать у него разрешения. Не нравилось мне это.
А ещё не нравилось мне отношение старших к простым смертным.
Не нравились так называемые «шуточки».
Возможно, это пришло ещё с пионерских лагерей, но здесь, в среде практически взрослых мужиков, эти шуточки приобретали уже характер жестокости.
Молодости свойственен безмятежный крепкий сон. Крепко спали все.
В первые же дни, когда ещё не было отсева, возникла такая шутка: спящему мёртвым сном пареньку снимали трусы и выдавливали ему на его мужское достоинство из тюбика зубную пасту. Утром паренёк чувствовал чтото неладное, лез проверять, в чём дело и, вынув из трусов белую ладонь, ошарашенно смотрел на неё, ничего не понимая. Казарма ожидала этого и немедленно взрывалась хохотом.
Однако с приходом к власти старших эта вроде безобидная шутка стала носить уже садистский характер.
Неоднократными наблюдениями было зафиксировано, что, как правило, именинник хватал стоящий рядом сапог и бросал его в того, кого он считал обидчиком (обычно в того, кто громче всех смеялся). Не знаю, кому это пришло в голову, но шутку модернизировали: перед выдавливанием пасты на это самое достоинство набрасывалась петелька из чёрной нитки, конец которой автор шутки, давясь от смеха, привязывал к ушку поставленного у кровати кирзового сапога.