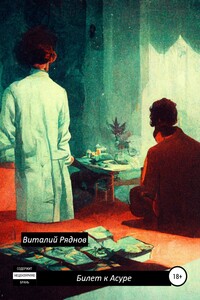Мой золотой Иерусалим | страница 83
Должно быть, я заранее предвкушала такую любовь, потому и решилась оставить ребенка, вернее, воздержалась от того, чтобы не оставлять. Сама того не сознавая, я полагалась на робкий внутренний голос, твердивший мне, что моя решимость будет вознаграждена. Разумеется, я была избавлена от необходимости выслушивать сакраментальный вопрос, который обычно со спокойной душой задают замужним матерям, колебавшимся, заводить ли им детей: «Ну что, теперь, небось, представить себе не можете, как бы вы без нее (него) жили?» В моем случае, вероятно, просто опасались — а вдруг я обернусь и заявлю:
«Еще как могу!», что поставило бы в одинаково неловкое положение и меня, и задавшего вопрос. Думаю, по многим соображениям я действительно могла бы предпочесть обойтись без Октавии, как, к примеру, иногда умом понимаешь, что предпочтительнее обойтись без красоты, смекалки или богатства — ведь эти дары вносят в нашу жизнь не только счастье, но и боль. С появлением ребенка я проливала слезы чуть ли не каждый день, и не только из-за молочных пятен на новых джемперах. Но, как часто бывает в жизни, даже теоретически невозможно сделать выбор между выигрышем и проигрышем, между тем, что найдешь, что потеряешь. Мне было ясно одно: выбора нет! Потому ничего не оставалось, как делать хорошую мину при плохой игре, дабы не множить собой ряды горячо обсуждаемых неудачниц, на печальный пример которых так любят ссылаться в наших кругах. Мне это бесспорно удалось, и вскоре последовал общий приговор: «Чудачка эта Розамунд! Похоже, она и впрямь счастлива. Выходит, она действительно хотела ребенка».
Я смутно предполагала, что после родов меня снова будут интересовать мужчины, как таковые, но ничего подобного не имело места. «Неплохо, если бы и кто-нибудь из взрослых одарил меня своей любовью», — думала я временами, хотя тогда мне никто не казался привлекательным, и я до сих пор не понимаю почему. Я ощущала какое-то неопределенное разочарование, словно меня и в самом деле обманули, предали и бросили. Кроме моей маленькой доверчивой дочери, никто не вызывал у меня нежных чувств, разве что Джордж. Я все еще ловила его голос по радио, и без всяких оснований мне становилось легче от мысли, что он по-прежнему близко, и хотелось знать, что-то он теперь поделывает. Случалось, умиленная прелестью Октавии, я впадала в экстаз и меня подмывало позвонить Джорджу и рассказать о ней, но я ни разу не позволила себе этого. Я воображала, что достаточно хорошо знаю человеческую природу, и потому прекрасно понимаю — ничья прелесть не может компенсировать последствия подобного открытия — ведь оно влечет за собой массу совершенно неоправданных обязательств — моральных, материальных и эмоциональных. Поэтому я щадила и Джорджа и себя. Иногда мне казалось, что я улавливаю в Октавии сходство с ним, а еще чаще мне чудилось, будто Джордж промелькнул в толпе, но каждый раз выяснялось, что это не он, а какой-то вылощенный молодой человек — либо продавец в антикварной лавке, либо модный дорогой портной.