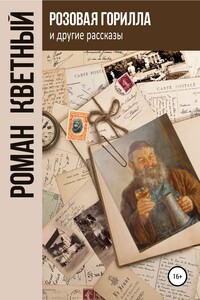Мой золотой Иерусалим | страница 63
Даже я — лицо незаинтересованное — подумала, что это действительно должно выводить из себя, но тем не менее сочла своим долгом заметить:
— Ничего, вырастут и перестанут.
— Надеюсь, — сказала Беатрис. — Но я хочу жить спокойно сейчас.
— Пусть так, — продолжала я, — но, по-моему, это не вяжется с твоими принципами. Уверена, что дети из более обеспеченных семей такие же глупые, вульгарные и несносные, как эта девочка. Ты согласна?
— Да, правильно, так и есть, но с их несносностью я умею справляться и знаю, как их унять. А с этой я ничего поделать не могу, остается только кричать на нее.
— А почему ей так приспичило играть с твоими?
— Даже не знаю. Наверно, потому, что все остальные дети старше и ходят в школу, а она еще мала и играть ей здесь не с кем. Посмотрела бы ты, что делается во время школьных каникул — все местные малолетние негодяи, и она в том числе, выстраиваются по ту сторону забора и забрасывают моих камнями. И что прикажешь делать? Я, например, не знаю.
— Как ее зовут? — спросила я, и Беатрис с чувством ответила:
— Сандра. Ее зовут Сандра. Нет, я правда не представляю, что мне делать.
Я тоже не представляла, хотя думаю, что постаралась бы как-нибудь выкрутиться. Потом я часто вспоминала ревущую Сандру, ее тупое лицо и с грустью думала: как жаль, что некоторым приходится сносить обиды чуть ли не с колыбели, ведь потом они поневоле считают, что неприязнь преследует их с самого рождения.
Мой ребенок должен был появиться на свет в начале марта, и я старалась исхитриться и родить свою диссертацию раньше. По правде говоря, затея была довольно безнадежная, ведь мне полагалось завершить диссертацию только к Рождеству, но я всегда работала быстро, а тут меня почти ничто не отвлекало. По мере того как проходила зима и вступала в свои права весна, мне все меньше и меньше хотелось куда-нибудь выходить, даже в Британский музей, и я приспособилась основную часть работы делать дома. Это было не так приятно, как в библиотеке, но во всяком случае, я не простаивала. Все складывалось в высшей степени удачно, мой руководитель — преподаватель Кембриджа — уже одобрил наметки, план, черновые наброски и первую главу, словом, все, что позволяло судить о конечном результате. Я была счастлива. Мысленно я уже представляла себе работу в целом, знала более или менее точно, что напишу и какие вопросы затрону. Однако к концу января я начала сникать. Временами я до того уставала, что даже читать не могла, но не хотела этого признавать. Я глотала все больше и больше таблеток, содержащих железо, однако они, похоже, не давали должного эффекта. В конце концов я решила, что чересчур сосредоточена на узком круге проблем и нужно внести в жизнь некоторое разнообразие. Но оказалось, что найти какие-то интересные занятия совершенно невозможно. Ходьба больше не доставляла мне удовольствия, поездки в общественном транспорте превратились в пытку, в кино я не в силах была спокойно досидеть до конца полнометражного фильма, даже еда и та не радовала: стоило съесть что-нибудь соблазнительное, и неизбежно наступала расплата. Все это меня крайне раздражало. Будучи в положении, я начала понимать, почему женщин так часто — и вполне справедливо — упрекают за то, что они вечно ноют, жалуются и вообще несносны. Как-то вечером я обсуждала эти наболевшие вопросы с Лидией, и она предлагала мне на выбор всевозможные занятия: вязание, плетение ковров или корзин, даже ткачество, но я с презрением отвергала все эти якобы полезные способы убить время. Наконец Лидия сказала: