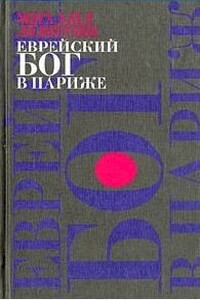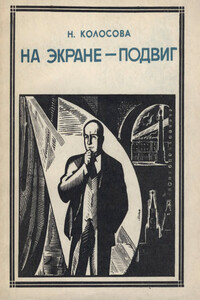Таиров | страница 38
Он молчал и улыбался. Но делал это так хорошо, что обращаться все постепенно стали именно к нему. Даже Блок, который становился все внимательней к приветливому собеседнику. Возможно, проверял — не дурак ли, не равнодушен ли на самом деле. Но по двум-трем репликам понял, с кем имеет дело, и, вообще, ему нравился облик венгеровского племянника. Он даже расспрашивал его немного о Киеве, о малороссийском театре, и очень удивился, когда Саша прочитал Шевченко, Лесю Украинку, и в непритворность их строк Блок тоже поверил.
— Удивительно, — сказал он. — На краю мира. А мы тут…
Он махнул рукой, оглянулся, наклонился к Саше, чтобы что-то сказать, передумал и быстро ушел.
Не все вели себя, как Блок, не всем хотелось слушать стихи на малороссийской мове, да еще не свои.
«Александрийские песни» Кузмина ему понравились больше, чем их автор, язвительный, как-то подчеркнуто внимательный человек, словно унижающий вниманием.
Но стихи, как известно, и не требуют автора, они сами полнятся содержанием и стоят долго, как бочка с дождевой водой на крыльце, что в ней отражается — не важно. Они есть и есть, их лучше не трогать.
В доме шли солидные политические разговоры. В них хотелось вникать, краем уха понять, как сопрягаются мысли поэтов с мыслями таких людей, как Луначарский, который объявился снова. В университете образовался полулегальный кружок молодых, и там, ко взаимному удовольствию, они встретились. Луначарский успел побывать в тюрьме, ссылке, за границей, был возбужден провалом революции, говорил о социализме как о религии, все более обоснованно и страстно.
Саше было с ним интересно. Он никогда не верил в случайность повторяемости встреч.
Этот старинный приятель догнал его здесь, в Петербурге, чтобы сообщить какую-то истину или предупредить об опасности.
С Луначарским было весело. Исходящая от него энергия не могла пропасть втуне, она оседала в слушателях, обещая им будущее.
— Вы и в самом деле думаете, — спросил Саша Луначарского, — что в России что-то изменится?
Тот поморщился до складки на переносице, побагровел, как всегда, когда не понимал, о чем его спрашивают, и вдруг неожиданно ответил:
— Буду рад, если с таким миропониманием у вас, Саша, что-нибудь получится, пусть даже в театре, а не в России.
Чем смутил Александра Яковлевича окончательно. Он прислушивался к себе, чему больше верит — зверскому аппетиту Луначарского к новой жизни или погребальному бормотанию за столом у Венгеровых.