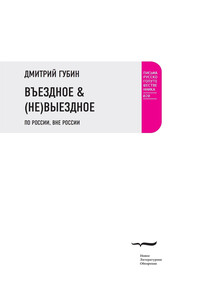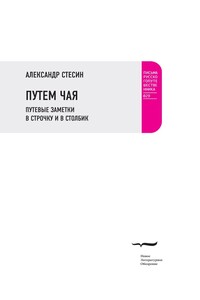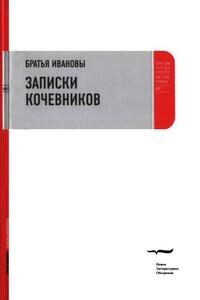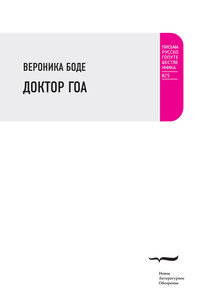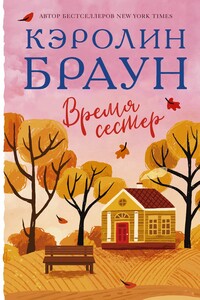На пути в Итаку | страница 68
Кадры из костюмного кино про султанский Восток.
Но это не кино. Карфаген — это еще и режимная госзона. Не притрагиваясь к фотоаппарату, я прошелся по шоссе, посмотрел на дворцовые ворота, на гвардейцев, вернулся к перекрестку и за железнодорожным мостом, приняв последнюю порцию угрюмо-настороженных взглядов, пошел вдоль решетки, огораживающей платформу электрички. За железными прутьями решетки надо мной в вольных позах поодиночке и компаниями стояли юноши и девушки, играла музыка из транзисторов, просовывались светло-фиолетовыми клочьями пены пышные кроны цветущих деревьев, — мне предстояли те самые (см. выше) сорок минут возвращения в полутемном, нервно и счастливо пульсирующем здешней жизнью вагончике в теплый, живой, открытый для свободной жизни Тунис.
P. S. (запись, сделанная через три года в Тунисе на мысе Вон)
29.10.2005
…И все-таки!
Вся мощь имперского Рима, косматым звероватым мраком сгустившаяся тенью в яростном солнечном свечении над Северной Африкой, над тем же гигантским колизеем «Эль Джеамме», из которого до сих пор как будто не выветрилась вонь от клеток со львами и гладиаторами, вся ярость Рима, дошедшая до нас в злобном клокотании Катона Старшего, — оказались бессильными. Я стою, вернее, сижу на улице финикийского города, которого по идее не должно быть. Города Кайркуан. Как и финикийский Карфаген, он был разрушен римлянами в 124 году до нашей эры. Но вот он. Не просто остатки фундаментов, но основания домов, полы с финикийскими мозаиками, туалетные комнаты с ваннами, крашенными пурпуром (который у финикийцев переняли римляне — сами придумать не смогли), улицы, площади, возвышение с остатками храмового сооружения, дуга крепостной стены, охлестывающая город с берега. В каменных плитах, лежащих у воды, до сих пор можно различить очертания гавани. Финикийских кораблей, естественно, не осталось, но осталось само понятие карты — карты мореходной и географической (карта — финикийское слово), в искусстве мореплавателей римляне с ними тоже тягаться не могли.
А ведь все, казалось бы, уничтожили, все книги сожгли, ни одного имени финикийского философа или поэта не дошло до нас. Римская цензура разрешила только книги агронома Магона, восемь томов, которые до сих пор включены в программу обучения тунисских агрономов. Самая безгласная, может быть, из погибших цивилизаций — про финикийцев мы знаем только по свидетельствам римлян, точнее, по их страшным байкам о кровожадности и коварстве проклятой нации.