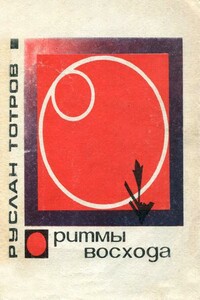Любимые дети | страница 96
«Смотри не заплачь от умиления».
«Эй! — слышу негромкий голос со стороны. — Кто здесь?»
Поворачиваюсь и вижу невысокого старика в чистенькой выцветшей гимнастерке, подпоясанной офицерским ремнем, в широкополой войлочной шляпе. Он стоит и смотрит ясными голубыми глазами вроде бы на нас, а вроде бы и мимо, и лицо его спокойно, словно он и не окликнул нас и не ждет ответа.
«Добрый день», — здороваюсь, и Майя повторяет вслед за мной:
«Добрый день».
«Ищете кого-нибудь?» — спрашивает старик.
«Уже нашли, — отвечаю, — свой дом».
«Дом? — переспрашивает он. — А чей ты будешь? Как твоя фамилия?»
Я называю себя, и он качает головой:
«Нет, — говорит, — ваши жили вон там, выше, — показывает рукой, — в Далагкау».
«Да, — киваю, смутившись, — в Далагкау. А это что за село?»
«А это Барзикау, — отвечает он и говорит, улыбнувшись едва заметно: — Раз уж вы попали к нам, прошу, зайдите ко мне хоть на минуту, чтобы люди не сказали потом, что в Барзикау не приютили заблудившихся путников».
Начинаю отнекиваться, как положено, но он поворачивается, идет, дорогу показывая, и нам не остается ничего иного, как идти за ним следом. Подходим к дому, похожему на тот, возле которого мы стояли только что, но окна, крыша — все на месте, поднимаемся на крыльцо, и в комнате — темный дощатый стол, старые венские стулья, деревянная тахта — нас встречает приветливой улыбкой сухонькая, миловидная старушка.
«Мир дому вашему, — произношу, по не казенно, а от всего сердца, — пусть только радость переступает ваш порог».
«Садитесь, пожалуйста, — приглашает нас старушка, — вы устали, наверное, отдохните».
«Прошу вас, — говорю, зная, что она сейчас затеет великую стряпню, — ничего не надо. Мы на минутку, нам нужно идти дальше».
«Не беспокойтесь, — ласково отвечает она, — все успеете».
Приносит, ставит на стол хлеб, нарезанный крупными ломтями, домашний сыр, графин с домашним пивом, сама же наливает его нам, и я вижу вдруг, как старик ищет свой стакан на ощупь, и она подвигает его к ищущей руке мужа, и догадываюсь, что старик слепой. А Майя в это время наклоняется ко мне и шепчет, кивая на стол, за которым мы сидим, на небогатое угощение:
«Как в лучших домах Филадельфии».
«Ты прости меня, девушка, — отзывается старик, — но я плохо понимаю по-русски».
Он поднимает стакан, произносит тост во славу бога, который послал ему гостей, желает нам здоровья и счастья, пьет и, выпив, говорит:
«Пусть никто не гнушается черным хлебом, а кто погнушается им, пусть до конца своих дней только его и ест».