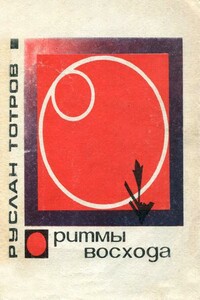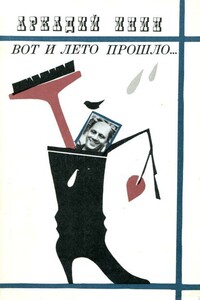Любимые дети | страница 40
Он хмурится, останавливает меня.
— Столько лет я вас знаю, — говорит, — а все никак не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.
— Я тоже, — киваю сочувственно.
— Что? — удивляется он.
— Не могу понять, когда шучу, а когда говорю серьезно.
— Ну, хватит! — он натягивает вожжи. — Скажите-ка лучше, как обстоят дела с изделием номер триста восемьдесят шесть?
З. В. предлагает мне сосредоточиться. Отречься от себя во имя изделия № 386. Забыть о дикой груше, лежащей на мокрой земле, о разлетевшихся птицах.
Формулирую: любой успех есть результат самоотречения.
Отрекаюсь.
Или вхожу в роль по системе Станиславского?
— Все нормально, — говорю, — можете ни о чем не беспокоиться.
— Что значит «не беспокоиться»?! — З. В. выпрямляется, упершись кулаками в стол. — Через пять дней изделие должно быть принято комиссией, а оно уже неделю стоит, заброшенное, и никто им не занимается!
— Простите, — теперь уже я останавливаю его, — но вы, наверное, забыли, зачем я всю эту неделю являюсь сюда после занятий?
Мне не хочется распространяться о том, что домой я возвращаюсь за полночь, но З. В. сам высказывается об этом, ворчит недовольно:
— Ночью только совы мышей ловят.
Он не может по ночам присматривать за моей работой, и это раздражает его. То, чего он не видит, не происходит вообще — таково его убеждение.
— Не знаю насчет сов, — пожимаю плечами, — я начисто забыл зоологию.
З. В. меняет тон.
— Может, стоит все же обратиться в военкомат? — спрашивает он, как бы советуясь. — Попросить, чтобы вас освободили от переподготовки в связи с производственной необходимостью.
— Нет, — отвечаю, — не надо.
К ЭТОМУ Я ОТНОШУСЬ СЕРЬЕЗНО.
— Вы будете поливать меня напалмом, — продолжаю вслух, — а я буду печь для вас хлеб.
ТАКАЯ ИГРА.
— Не буду я никого поливать напалмом, — отмахивается З. В., — мне шестьдесят пять лет.
Он ровесник моего отца.
— Да я не вас имел в виду, — улыбаюсь. — Сам не пойму, как это получилось, но я нечаянно воззвал к человечеству.
— Не морочьте мне голову! — сердится З. В. — У вас есть дело поважнее!
Вижу — он открывает калитку, заходит во двор, и я смотрю на него с удивлением и страхом (изжелта-бледное лицо, костыли под мышками, зеленая, застиранная гимнастерка, зеленый горб на спине — вещмешок), смотрю и догадываюсь, и знаю уже, что это он,
МОЙ ОТЕЦ,
вернувшийся с войны, и, пересилив себя, делаю шаг ему навстречу, стою оторопело, а он протягивает руку, чтобы погладить меня по голове, но роняет костыль, нагибается неуклюже, но не может дотянуться; лицо его искажается от боли, на лбу появляется испарина, и я смотрю, не могу оторваться, и, кажется, тоже совершаю непосильное для себя физическое действие, и, не выдержав, срываюсь вдруг, бросаюсь наутек, бегу за дом, в сад, в самый дальний конец его, и прячусь там в колючих зарослях акации.