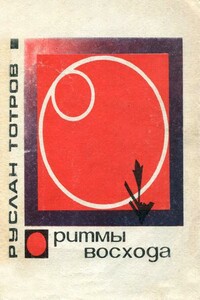Любимые дети | страница 22
Выхожу, оглушенный. Снова открываю дверь:
— Разрешите?
— Слушаю вас.
— Лейтенант-инженер такой-то по вашему приказанию прибыл!
— Вольно, — не заметив ничего неладного, говорит он и приглашает вполне по-штатски: — Садитесь.
Присаживаюсь у краешка стола. Полковник подвигает ко мне лист бумаги и простенькую шариковую ручку:
— Пишите объяснение. По поводу вашего опоздания.
— Может быть, устно? — спрашиваю я.
— Устно нельзя! — отрезает он.
Задумываюсь — что писать? — а в памяти прокручивается первый день занятий. Тот же кабинет, те же действующие лица. Стоим у окна, и полковник говорит, словно сокровенным делится:
«Будем готовить вас на должность начальника полевого хлебозавода».
«Но я ничего не смыслю в хлебопечении, — развожу руками, — я ни дня не работал в пищевой промышленности вообще».
«Однако на военной кафедре института вы обучались по специальности «продовольственное снабжение»?»
«Это было так давно, что я успел все позабыть».
«Ничего, за эти две недели мы напомним вам теорию и ознакомим с материальной частью, а осенью призовем на сборы и дадим возможность попрактиковаться в полевых условиях».
«А может, оставить эту затею? Не проще ли использовать меня по профилю моей теперешней специальности?
«Вы нужны нам именно в том качестве, о котором я говорю».
ИТАК,
если взойдет искусственный гриб, то в тени его чудовищной шляпки
Я БУДУ МЕСИТЬ ТЕСТО, ПЕЧЬ ХЛЕБ.
Торопясь, пишу в объяснительной: «Опоздал, потому что проспал». Это в большей степени соответствует истине, чем повесть о парализованной девушке, беллетристика, которую мой единственный читатель счел бы, наверное, изощренной ложью. Да и была ли она, Зарина? (Привыкаю к ее имени.) Если бы я проснулся вовремя, встал и вовремя вышел из дома, вовремя сел в автобус или в трамвай — если бы, если бы. Отдаю бумагу полковнику, он читает, шевеля губами, отрывается, долго смотрит на меня.
— Шутка? — спрашивает наконец.
— Нет, — отвечаю, — правда.
— Что ж будильник-то не завел? — простодушно удивляется он.
— Завел, — говорю, — да звонка не услышал.
Полковник качает головой:
— Эх, молодость, молодость.
С высоты его лет я кажусь вопиюще молодым, наверное, даже юным, пожалуй.
— А я за всю свою жизнь ни разу не проспал, — с грустью говорит он вдруг, — не было такой возможности.
Вот и биография. В одной-единственной фразе. И не нужно личного дела, анкет никаких. Исчезают погоны, петлицы, мундир, и полковник предстает передо мной голым — славная наша мотопехота, царица полей — голый и грустный полковник. Серая кожа, опущенные плечи, отвисший живот. Подтянитесь, полковник, вы не так уж плохо выглядите для своего возраста. Сколько вам, кстати? А вдруг вы проживете еще столько же, и мы, сравнявшись, два долгожителя — мне девяносто, вам около ста двадцати — будем сидеть себе целыми днями на бульваре и под шелест листьев беседовать неторопливо, вспоминая прошлое и предполагая будущее. Будем сидеть, олицетворяя собою вечность, и, беседуя, поглядывать исподтишка на проходящих девушек. (Вы заметили, наверное, что в каждом следующем поколении они становятся все красивее, если счет поколениям вести от окончания войн?) Ах, полковник, время опадать листьям и время распускаться. И ничего тут не поделаешь, хоть мне и хотелось бы как-то поддержать вас, помочь, хоть слово доброе сказать — но где оно, это слово?