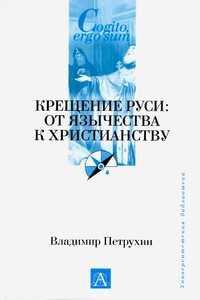Московская Русь: от Средневековья к Новому времени | страница 30
Казаками (это тюркское слово означает — «удалец, вольный человек», впервые встречается в летописи под 1444 г.) называли тех отчаянных людей, которые уходили с освоенных русских земель на юг, в степи. Они поселялись в удобных для занятий рыбной ловлей, охотой, скотоводством местах, строили небольшие городки для обороны (прежде всего в низовьях рек Дон и Хопра). Они вместе защищались от соседей-кочевников, вместе решали вопросы внутренней жизни своих поселков на собраниях (казачьих кругах). Среди них мог укрыться и беглый крестьянин, и обедневший дворянин, и вообще любой, кому «тесно» было на Руси, — найти и вернуть беглеца было не под силу даже московскому царю. «С Дону выдачи нет», — гордо говорили казаки. Постепенно сложились сообщества донских, волжских, днепровских и гребенских казаков, позже — терских и яицких казаков. По устройству поселения казаков отдаленно напоминали небольшие «республики».
Вольные казаки жили не только промыслами — главным их занятием была война. Хорошо вооруженные, дружные, привычные к походной жизни казацкие отряды (станицы) совершали набеги на города и селения по берегам Азовского и Черного морей, доходили и до Северного Кавказа.
Казаки никогда не забывали о своей связи с Русью, говорили в основном на русском языке (хотя среди них попадалось и много иноплеменников) и, если их права не нарушались, готовы были служить России. С целью сохранить мир в степях и привлечь казаков на свою сторону Московское правительство время от времени помогало казакам припасами (особенно порохом, хлебом и другими необходимыми для жизни вещами), а иногда и деньгами. Их охотно нанимали на службу в пограничных крепостях, используя не только для их защиты, но прежде всего для разъездов (разведки) в степи, для связи между крепостями. Таких казаков называли служилыми. Они воевали на своих конях и с собственным оружием, за что получали жалованье и участки земли на границе (как правило, без крестьян). Казаки часто служили не по одиночке, а целыми станицами, с выборными атаманами во главе.
Постепенно русские нашли надежное средство, как надежно защитить лесостепную равнину, в которой не было естественных преград. Они возвели «засечную черту»: сплошную линию из небольших деревянных застав, укрепленных речных переправ и непроходимых для конницы лесных засек, соединенных валами. В крепостях «черты» служили по прибору, то есть по вольному найму, за небольшое жалованье и землю стрельцы, пушкари и другие военные люди, а также казаки. «Черта» перерезала обычные пути набегов — «татарские шляхи». На степных черноземных почвах под ее защитой можно было смело сеять хлеб, поэтому их быстро распахивали. За «черту» высылали разъезды, там ставили сторожевые посты, на судах совершали рейды по Дону или Днепру и нападали на принадлежавшие Крымскому ханству берега Азовского и Черного морей. Подумывали даже о покорении Крыма, но опасались войны с могущественной Турцией, вассалом которой был крымский хан.