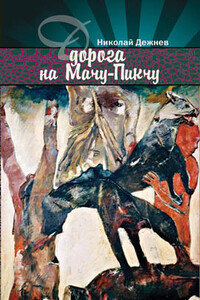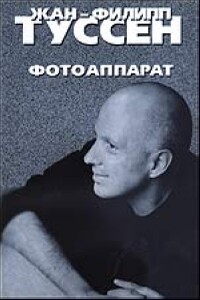В концертном исполнении | страница 39
— Пиши! — Голос доминиканца донесся откуда-то из угла.
Плохо понимая, что делаю, я сел за стол и начал писать. Немели пальцы, рука отказывалась мне повиноваться, но, охваченный воспоминаниями, я продолжал водить пером по бумаге, не в силах остановиться. Я писал о ней, о счастье видеть ее нисходящей с небес, о благоговении и блаженстве обладать ангелом во плоти. Я писал о себе, о том, до чего может довести человека любовь. Ослепительные картины счастья и наслаждения, страх потерять ее и страдания вставали передо мной, и я писал, захлебываясь от чувств и испытывая истинное облегчение от возможности рассказать о том, чем жил. Запах ладана ударял в голову; когда в поисках достойного сравнения я отрывался от бумаги, глаза мои встречали его остановившийся взгляд, и не было сил отвести их от костлявого лица иезуита. Язычок пламени плясал, умирая, что-то уходило из моей жизни, и я это чувствовал. Наконец голова моя упала на стол, рука выпустила перо, и бумага выскользнула из-под нее.
Он читал. Он читал медленно и звучно. Он читал так, как если бы сам испытывал все то, что было сказано словом. Ровный звук его голоса усыплял, и я впал в забытье, но стоило ему замолчать, как я очнулся.
— Подпиши!
Я не понял, и он повторил:
— Подпиши! — и с силой прижал к листу мою руку.
Я подписал. Я подписал донос!
— Вот и все! — Доминиканец поднес к моим губам чашу с вином. — Я знал, что рано или поздно ты придешь. Кто-то из нас троих должен был умереть — это выпало ей! Я инквизитор, ты доносчик, она жертва — любовный треугольник!
Он улыбнулся одними губами. Я вскочил, но в следующую секунду уже лежал на полу. Он стоял надо мной, как обычно сгорбив спину, свесив длинные руки.
— Только ведьма способна так овладеть человеком. Тебе не о чем жалеть, у тебя останется память о ней, а что в этом мире может быть лучше воспоминаний! Можно отнять честь, можно — деньги, но то, что ты пережил, отнять нельзя. Ты будешь обладать ею вечно… — Он замолчал, потом добавил: — И я!
— Я убью тебя! — Мои губы шевелились беззвучно, но он понял.
— Знаю. Но какое это имеет значение? Все уже в прошлом. Ее нет, она для тебя мертва!
На коленях, на животе, как последняя тварь, я ползал за ним, хватая за подол рясы, заклинал всеми святыми отдать мне бумагу. Он только грустно, сочувственно улыбался, как всегда улыбался прихожанам с кафедры, и хвалил мое религиозное рвение. Потом что-то случилось, и на меня обрушилась чернота. Я все бы отдал, только бы умереть в ту ночь, но рассвет застал меня лежащим на ступенях храма. Вверху, над моей головой, освещенное первыми лучами солнца, трепетало на ветерке знамя ордена доминиканцев. С его полотнища на меня почти весело и строго взирал добродушный монах, у его ног на облаке возлежала собака.