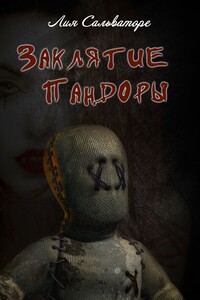Пейтон-Плейс | страница 15
«И все-таки в один прекрасный день я должна буду это сделать», — думала Констанс.
Она открыла дверь в дом и прошла в гостиную, где ее ждала Эллисон.
— Привет, дорогая, — сказала Констанс.
— Привет, мама.
Эллисон сидела в кресле, перекинув ноги через подлокотник, и читала книжку.
— А что ты теперь читаешь? — спросила Констанс, стоя перед зеркалом и аккуратно снимая шляпку.
— Просто детскую сказку, — оборонительно ответила Эллисон. — Я люблю время от времени их перечитывать. Это «Спящая красавица».
— Прекрасно, дорогая, — неопределенно среагировала Констанс. Ей сложно было понять двенадцатилетнюю девочку, уткнувшую нос в книгу. Другие в ее возрасте проводили бы все свое время в магазине, проверяя коробки с новыми товарами и восхищаясь чудесными платьями и бельем, которые прибывали туда почти каждый день.
— Кажется, пора придумать что-нибудь поесть, — сказала Констанс.
— Полчаса назад я положила в духовку пару картошек, — сказала Эллисон, откладывая книгу в сторону.
Вместе они прошли на кухню и приготовили то, что Констанс называла «обедом». Как понимала Эллисон, ее мама была единственной женщиной в Пейтон-Плейс, которая называла это именно так. Вне дома Эллисон была очень осмотрительна в определении «ужина». При посторонних она всегда говорила «пойти в церковь» и никогда — «на службу», или, если речь шла о платье, — «хорошенькое» и никогда — «элегантное». Такие мелочи, как разница в терминологии, всегда стесняли Эллисон и доводили до того, что по ночам, ерзая в кровати, она сгорала от стыда и начинала ненавидеть свою мать за то, что та сама не как все и ее делает такой же.
— Мама, ну, пожалуйста, — в слезах говорила Эллисон, когда Констанс своей манерой выражаться доводила ее до точки кипения.
А Констанс, похоронившая в Нью-Йорке диалект родных мест, отвечала:
— Но, дорогая, это действительно элегантное маленькое платье!
Или:
— Но, Эллисон, главная дневная трапеза всегда называлась обедом!
В девять часов вечера Эллисон надела пижаму и положила свои книжки на камин в гостиной. Она посмотрела на фотографию отца и на минуту замерла, изучая улыбающееся ей лицо. Волосы у него надо лбом росли, что называется, мысиком, и это придавало ему несколько дьявольский вид. Глаза у Эллисона Маккензи были большие, темные и глубокие.
— Он был красив, правда? — тихо спросила Эллисон.
— Кто, дорогая? — отозвалась Констанс, оторвавшись от своей бухгалтерской книги.
— Мой папа, — сказала Эллисон.
— О, — сказала Констанс, — конечно, дорогая, конечно.