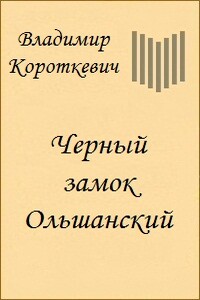Письма не опаздывают никогда | страница 12
— А я знаю, я уверен, что он был неплохим человеком.
— Тебе легко, — с горечью сказала она.
Наступило молчание, и почтальон, выбрав минуту, подал голос.
— Что там такое? — надтреснуто спросила с веранды пожилая женщина.
Из-за кустов вышла молодая, лет тридцати.
— Почтальон, — сказала она, и почтальон по голосу узнал в ней ту, что произносила слова горьких признаний.
— Веди его сюда, Машенька, — сказала пожилая.
Почтальон поднялся на веранду. За молодой. Она шла впереди, прямая, сдержанная. Села, положила щеку на ладонь, глядела холодными зеленоватыми глазами из-под длиннющих темных ресниц.
"Ну хороша", — подумал почтальон и отвел глаза.
Тут же увидел молодого мужчину, тоже вышедшего из кустов. Мужчина был худощав, тонок в поясе. Лицо умное, живое. И кисти рук тонкие, очень белые. Только на лбу, справа, змеится розовый шрам. Да вместо одного пальца на левой руке закрученная узлом культя.
"И этот ничего, — подумал почтальон, — породистый, вроде благородного бандита из "Эльдорадского мстителя".
— Что же вы? — спросила Машенька.
Почтальон протянул письмо. Пожилая вгляделась в адрес.
— И не разберешь, что тут нацарапано. Прочти, Гришенька. А вы, молодой человек, посидите с нами, попейте чайку. Варенье… крыжовниковое… для него варила.
— Мама, мама, — произнесла Машенька все тем же — с болью и холодком — голосом.
— Да ладно, что уж.
Почтальон понял, что они очень не хотят оставаться одни. И не только потому, что присутствие постороннего человека разряжает обстановку, но еще и потому, что им не хочется оставаться наедине со своими мыслями. У пожилой женщины они были о том, что вот Сенечка и Машенька не любили покойного и что ей самой нужно бы их за это меньше любить, да не получается и только очень горько на душе.
А у молодых — что надо притворяться ради матери и что она им этого никогда в глубине души не простит. И еще о том, что и сами они скверные: не любят того, неизвестного, кого им надо бы любить.
Почтальон был молод и потому добр. Кроме того, обход он закончил.
— Не надо плакать, мамаша, — сказал он, — а чайку я попью.
— Выпейте вина. Хорошее вино, сухое, — оторвался зять от письма.
Вдали, за яром, за курчавой пеной садов, стояли багровые, пряничные стены Кремля с их многострадальными башнями да видны были облупившиеся луковицы старого и — как бывает иногда с пожилыми людьми — от старости особенно безобразного собора. И никто не думал, что тут триста с лишним лет тому кипели человеческие толпы, вода заливала крепость и возы тщетно тянули к серому небу оглобли, что тут крестьянский вождь в лаптях и волчьем треухе глядел в толпу шальными светлыми глазами — недолго им оставалось видеть — и хрипло говорил: