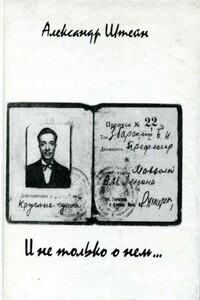Набоков | страница 78
Но ученичество, робкое подражательство уходят. Была имитация, появилось осознанное созвучие — осознанный выбор той традиции, той музыки, которую хочется продолжить, продлить, вопреки времени, что ее заглушает. Посвящение на первой странице: «Памяти моего отца» — ко многому обязывало. Как и пушкинский эпиграф из «Ариона» с его клятвой верности погибшим.
В представлениях тогдашнего Набокова верность означала культурное наследование. Творчество становилось преимущественно, если не исключительно, сохранением атмосферы, ассоциаций, духа, тона, всего, что соотносится с «еще свежей Россией». С ее Серебряным веком.
Для Набокова это время, совпавшее с его ранней юностью, пока еще существует нерасчлененно, оно остается счастливым «синеоконным прошлым», в котором «никто никогда не умрет». Отвергнуто — простым неупоминанием, неучастием в созидаемом им культурном мифе — лишь то, что разрушало Серебряный век, приближая другой: революционный и послеоктябрьский. Отвергнут футуризм. Отринуты салонная мистика и эгоцентричность, замешанная на поддельной, аффектированной религиозности («Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя», — записывала в дневнике Зинаида Гиппиус, а дальше были опыты «соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных», но не херувимов, которые в одноименном набоковском стихотворении «над твердью голубой… глядят недвижными очами», а литераторов 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и Д. В. Философова).
Но на этом избирательность Набокова, похоже, заканчивается. Серебряный век предстает в книге отголосками, которые доносят едва ли не всю его пестроту. Отголосками программы акмеизма, причем в первом же стихотворении: «Отчетливость нужна, и чистота, и сила. Несносен звон пустой, неясность утомила». И отголосками этой неясности, неотчетливости, возведенной в творческий принцип символистами: «Ты сон навеваешь таинственный. Взволнован я ночью туманною, живу я мечтой несказанною, дышу я любовью единственной». Бунинскими отзвуками, и даже иногда есенинскими («„Жизнь моя, — скажу я властно, — не сердись, — ты не права!“ — но пойму я, что напрасны старые слова»), и с виду совсем уж странными, зная стойкую неприязнь к этому автору, параллелями с Брюсовым — как раз в стихах с библейскими мотивами и «византийской» образностью, которая говорит о холодном (по-набоковски: безбурном) эстетизме и фактическом отсутствии религиозного чувства.